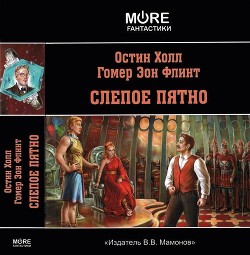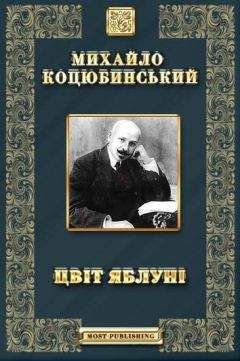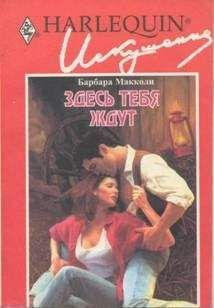я давно ни на шаг, метро нет, а есть только катакомбы, да и потом, кто я такой, чтобы ко мне кто-то подходил: ведь я не Хандке, а там был Хандке, однажды в парижском метро.
Он вышел на «Шатле», а мы поехали дальше.
Но и в моем городе можно наткнуться на кого угодно, это большой город: в кварталах Нового Белграда можно заблудиться, и в узких извилистых улицах тоже, там, на окраинах, откуда видны поля, по которым бродит Агасфер, либо в лабиринте аэропорта, в который, может быть, прямо сейчас прибывает Ян Железный. Это еще кто, спросите вы. Знаете, тот парень, легкоатлет, копьеметатель, который играючи бросил копье через весь стадион, и из-за которого пришлось изменить конструкцию снаряда. Мало ли что: старым копьем он вполне мог попасть в какую-нибудь несчастную бабульку, возвращавшуюся от кардиолога мимо столпотворения людей и машин и не подозревающую, что внутри, в утробе огромного строения, из которого доносится гул толпы, в этот самый момент проходит чемпионат мира по легкой атлетике.
Ух, действительно хорошо, когда тебя зовут не Яном. Расскажу, почему. Нет, не сейчас.
А знаете, кого я еще как-то раз видел? Правда, видел, честное слово. Мне было не больше десяти, когда в недавно открытом подземном переходе в центре моего города я увидел Никицу Маринович. [8] Было солнечное весеннее воскресенье, праздный и любопытствующий народ толпился в переходе и глядел на новое чудо — блестящие витрины и рекламу, а мы, ребята с того берега реки, где кварталы росли на песке с такой скоростью, что всякое сравнение их с грибами после дождя было излишним, до одури катались на эскалаторе. Это было первоклассное развлечение: эскалатор везет тебя вверх, ты сбегаешь по двадцати пяти ступенькам в подземелье и, хоп, снова стоишь на движущейся вверх лестнице, ждешь скорейшего прибытия наверх, пробиваешься через тех, кто спокойно едет, наступаешь на них ботинками сорокового размера (ноги у меня уже и том возрасте были большими), игнорируешь замечания и периодические шлепки — хоп, хоп, хоп, давай снова, вверх, вниз, вверх, вниз… И так сто, двести раз, пока тебе не надоест и вся компания не устанет, потом вы идете на перекресток и смотрите, как регулировщик, весь в белом, балетными движениями рук направляет и перенаправляет редкие автомобили. И имя у него было почти что Ян, только наша версия этого имени.
Вдруг время, если кто-нибудь из нас знает, что это такое, остановилось. Просто остановилось, не шелохнется.
На вершине эскалатора появилась она, Никица Маринович, прекраснейшая Мисс мира. Толпа на мгновение застыла, сейчас мне даже кажется, что от удивления остановился и эскалатор. Никого не волновало, всем было безразлично, что ей где-то там, бог знает где, присудили второе место. Она была самой красивой, точка. У меня и этому есть свидетели, вернее, были: со временем они, к сожалению, испарились, пропали, исчезли, разбежались, кто куда, или, что хуже всего, поумирали, хм, прибыли на конечную станцию своего собственного поезда. Красота завораживает, тут не о чем говорить. Она появилась, ступила на первую ступеньку, на спуск, и в пространстве вокруг нее воцарилась такая тишина, какой, полагаю, не бывает даже на том свете, впрочем, кто бы мог это знать. То есть, тех, кто знает, уже нет с нами, как и самой Никицы. Не спешите: в любом случае каждый из нас рано или поздно это узнает — поезд стучит колесами в ночи, гремит и острым глазом фонаря, словно ножом, рассекает безграничную тьму.
Вы слышите? Его протяжный свист?
Все стояли неподвижно и молча смотрели на нее, а она, красивее которой нет и никогда не будет, неся свою красоту так, как день несет ночь, спустилась в подземелье и потом исчезла. Годы спустя, будучи уже практически взрослым мужчиной, я шел в задумчивости по тому же городу, гоняясь за собственными мыслями, кидаясь то в одну, то в другую сторону и не замечая прохожих, которые в муравьиной спешке переносили свои гениальные идеи «экстра-сайз» (XXXXL) с места на место, желая, чтобы их кто-то выслушал, но такой, готовый выслушать, родился только однажды. Если вообще рождался. Большинство верит, что да. И вот я, занятый носками своих ботинок, сами знаете какого размера, потому что всегда хожу так, чтобы не наступать на края тротуарной плитки, никто не знает, зачем и почему, вдруг поднял взгляд. И встретился с теми самыми глазами, снова, на одну миллисекунду, как перед пробуждением в поезде, когда не можешь вспомнить, где ты, и почему тебе все знакомо. Я прошел мимо и, не оглядываясь, сынок, [9] шаг или два спустя, выкопал из подсознания, из мертвого воспоминания ту давнюю сцену в подземном переходе, перед которым больше не стоит человек, которого зовут Ян. Та же походка, то же самое лицо, на которое упала вечерняя тень, в прямом и переносном смысле.
И, да, глаза, те же глаза.
Взгляд не стареет, говорила моя бабушка с материнской стороны, моя кормилица — у нее и в девяносто лет были ошеломляющие глаза шестнадцатилетней девочки.
Ладно, сел я, наконец, в тот поезд. Было это, как я сказал, давно, но я буду рассказывать так, будто это случилось только что: когда мы думаем о чем-то — оно здесь, «сейчас» — это всегда сейчас, если вы понимаете, что я хочу сказать. Если не понимаете — ничего страшного, это не единственная недосказанность, на свете и без нее полно недосказанностей, а поезд, с тех пор как придумали паровоз, и рельсы сетью опутали мир, стал передвижным складом недосказанных историй: о любви, о кражах и убийствах, об изгнании и бегстве, о скитаниях и блужданиях, о встречах и исповедях, о знакомствах и узнавании, об отъездах на похороны, на войну, на семейные праздники, в гости к родственникам и так далее, и так далее.
Заходишь в поезд — история тут как тут.
Вот она.
Это было — я знаю, что повторяюсь — долгое путешествие, на другой конец континента, в холодные, влажные, бессолнечные края. Мне посчастливилось купить билет в спальный вагон, мужской дубль, но, придя на вокзал, я узнал, что спальный вагон первого класса, в котором я забронировал место, по причине аварии исключен из состава, а пассажиры распределены по другим вагонам. Мне досталось четырехместное купе, я ехал с тремя молодыми женщинами. Вначале, пока проводник-кондуктор объяснял пассажиркам, что происходит, и вносил мой багаж, нам всем было неловко. Но, ничего не поделаешь, как-нибудь ужмемся и перетерпим эту неприятность, десять-двенадцать часов вдыхания одного