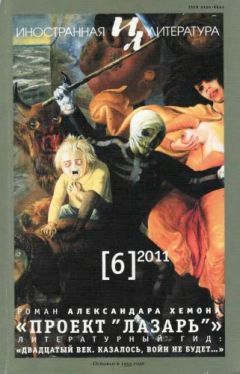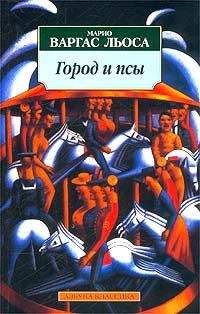рядом, в проходе, мерцает синеватый огонек. Альберто направляется туда.
– Ягуар?
Никто не отвечает. Альберто достает фонарик – дежурным, помимо винтовки, полагаются фонарик и фиолетовая нарукавная повязка, – зажигает. В снопе света возникает грустное лицо, нежная безволосая кожа, чуть прикрытые глаза смотрят робко.
– Ты что тут делаешь?
Раб поднимает руку, закрывается от луча. Альберто гасит фонарик.
– Я дежурю.
Альберто вроде бы смеется. В темноте раздается звук, похожий, скорее, на долгую отрыжку, на пару секунд стихает, а потом снова разливается невеселой струей чистого, настырного презрения.
– За Ягуара стоишь, – говорит Альберто, – мне за тебя прям стыдно.
– А ты его смеху подражаешь, – мягко отвечает Раб, – это постыднее будет.
– Твоей маме я подражаю, – говорит Альберто. Он снимает винтовку с плеча, кладет на траву, поднимает воротник куртки, потирает руки и садится рядом с Рабом. – Курить есть?
Потная рука касается его руки и тут же отдергивается, оставив мятую папиросу, с повылезшим с концов табаком. Альберто зажигает спичку. «Осторожно, – шепчет Раб, – патруль увидит». «Блин, – говорит Альберто, – обжегся». Перед ними простирается плац, ярко освещенный, словно большой проспект в сердце города, скрытого туманом.
– Как это у тебя так долго курево держится? – спрашивает Альберто. – Мне в лучшем случае до среды хватает.
– Я мало курю.
– И чего ты такой пришибленный? Тебе вот не стыдно за Ягуара дежурить?
– Я делаю что хочу, – отвечает Раб. – Тебе-то что?
– Он с тобой, как с рабом, обращается, – говорит Альберто. – Да все с тобой, как с рабом, обращаются. Чего ты боишься всех?
– Тебя не боюсь.
Альберто смеется. Вдруг резко замолкает.
– Правда, – говорит он, – я смеюсь как Ягуар. Почему все за ним повторяют?
– Я не повторяю.
– Ты все равно что его пес. Тебя он нагнул.
Альберто отшвыривает окурок. Умирающий огонек поблескивает в траве у его ног, потом гаснет. Во дворе пятого курса по-прежнему пусто.
– Да, – повторяет Альберто, – тебя он нагнул.
Открывает рот, закрывает. Двумя пальцами снимает с языка крошку табака, ногтями рвет надвое, кладет обе частички обратно в рот, сплевывает.
– Ты, поди, никогда не дрался?
– Только раз, – отвечает Раб.
– Здесь?
– Нет. Давно еще.
– Поэтому тебя и нагибают, – говорит Альберто. – Знают, что ссышь. Время от времени надо махаться, чтоб тебя уважали. Иначе вся жизнь псу под хвост.
– Я не буду военным.
– Я тоже. Но здесь ты военный, хочешь не хочешь. А в армии надо быть мужиком, со стальными яйцами, понимаешь? Или ты жрешь, или тебя жрут, третьего не дано. Мне вот не нравится, когда меня жрут.
– Я не люблю драться, – говорит Раб. – Точнее, не умею.
– Этому нельзя научиться. Это вопрос смелости.
– Лейтенант Гамбоа тоже так говорил.
– Ну так это правда. Я не хочу быть военным, но тут становишься мужчиной. Учишься защищаться, жизни учишься.
– Ты ведь нечасто дерешься, – говорит Раб, – но к тебе не лезут.
– Я под чокнутого кошу, типа под дурачка. Это тоже помогает, чтобы тебя не прижучили. Если не отбиваться изо всех сил, не успеешь оглянуться – на шею сядут.
– Ты хочешь стать поэтом? – спрашивает Раб.
– Ты дурной, что ли? Я буду инженером. Отец отправит меня в Штаты учиться. Письма и рассказики я пишу, чтоб на курево заработать. Но это ничего не значит. А ты кем хочешь быть?
– Хотел быть моряком. Но больше не хочу. Мне не нравится армейская жизнь. Может, на инженера пойду.
Туман сгустился; фонари на плацу кажутся меньше, свет – слабее. Альберто шарит по карманам. Сигареты кончились два дня назад, но он машинально повторяет жест каждый раз, как хочет курить.
– У тебя осталось?
Раб не отвечает, но мгновение спустя Альберто видит протянутую в сумраке руку. Он дотрагивается до нее, нащупывает почти полную пачку. Достает папиросу, вставляет в рот, кончиком языка касается плотной островатой поверхности. Зажигает спичку, прикрывает огонек ладонью и подносит его, мирно теплящийся в этом гротике, к лицу Раба.
– Ты чего, мать твою, ревешь? – говорит Альберто и роняет спичку. – Опять обжегся, вот же ж.
Закуривает от новой спички. Затягивается, выпускает дым носом и ртом.
– Что с тобой такое?
– Ничего.
Альберто снова затягивается. Кончик папиросы мерцает, дым смешивается с туманом, лежащим низко, почти на земле. Двор пятого курса исчез. Казарменный корпус превратился в огромное неподвижное пятно.
– Что тебе сделали? – спрашивает Альберто. – Никогда не надо плакать, мужик.
– Куртка, – говорит Раб. – Увольнение мое похерили.
Альберто поворачивается к Рабу. Поверх рубашки у того надета коричневая безрукавка.
– Меня завтра должны были отпустить. А теперь я в жопе.
– Знаешь, кто спер?
– Нет. Из шкафчика вытащили.
– Сто солей вычтут, не меньше.
– Я не потому. Завтра смотр. Гамбоа меня лишит увольнения. А я уже две недели не выходил.
– Сколько сейчас времени?
– Без четверти час. Можем идти в казарму.
– Обожди, – говорит Альберто и встает. – Время есть. Сейчас добудем тебе куртку.
Раб вскакивает, как пружина, но потом застывает на месте, словно в ожидании чего-то неумолимо надвигающегося.
– Пошли, – говорит Альберто.
– Дежурные… – шепчет Раб.
– Да чтоб тебя. Я тут увольнением рискую, чтобы достать тебе куртку. Терпеть не могу трусов. Дежурные в седьмой уборной, у них там покер.
Раб плетется за ним. В сгущающемся тумане они идут к невидимым казармам. Ботинки шуршат по мокрой траве, а в мерный рокот моря вплетается теперь свист ветра, насквозь продувающего здание без окон и дверей, которое стоит между учебным корпусом и офицерским общежитием.
– Пойдем в десятый или в девятый, – говорит Раб. – Мелкие спят беспробудным сном.
– Так тебе куртка нужна или жилетка? – говорит Альберто. – Пошли в третий.
Они уже в галерее рядом с нужным взводом. Альберто тихонько толкает дверь, она бесшумно открывается. Просовывает в проем голову, будто зверь, обнюхивающий пещеру. По темной казарме разносится мирное посапывание. Дверь за ними закрывается. «А что, если он даст деру, вон как дрожит, а если разрыдается да как припустит, а что если Ягуар взаправду его нагибает, вон как потеет, а что если сейчас свет врубится, как мне смыться?» «В том конце, – шепчет Альберто Рабу на ухо, – есть шкафчик далеко от кроватей». «Что?» «Черт. Иди сюда». На цыпочках они медленно проходят казарму, растопырив руки, чтобы ни на что не налететь. «А если ослепнуть, стеклянные глаза вставлю, Златоножке скажу, на тебе глаза, только дай в долг, папа, хорош уже по бабам шататься, хорош, пост покидает только павший в бою». У шкафчика они останавливаются, Альберто пробегает пальцами по древесине. Запускает руку в карман, выуживает отмычку, другой рукой нащупывает замок, зажмуривается, стискивает зубы. «А что, если сказать, клянусь, господин лейтенант, я искал