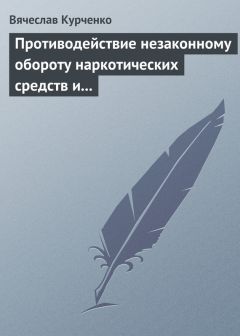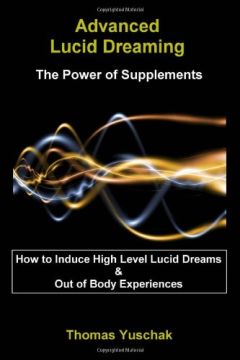из одной из дверей, и тут же девушки, стоявшие поодаль, окружили ее и вручили ей цветы. Я медленно приблизился к ним, не отрывая взгляда от Кати, а она обнимала подруг и благодарила их. Такая: душевная, улыбающаяся, земная, из плоти и крови – она понравилась мне еще больше, и обожание захлестнуло меня.
Обычно до смешного застенчивый с девушками, все же, словно под действием давно накопившихся желаний и мечтаний о Кате, я очутился совсем рядом и тоже вручил ей цветы. Я говорил что-то бессвязное про то, как мне понравился этот концерт и прошлый, про то, что был бы рад сходить с ней и ее подругами сейчас в какое-нибудь уютное место и отметить ее триумф. Честное слово, я так и сказал: «триумф»! Кажется, Катя засмеялась тогда, услышав это нерусское, вычурное слово. А меж тем глаза и взгляды вершили свое, намного более значимое и сокровенное, чем осмеливались произнести губы.
Катерина устремляла на меня прямой, смелый взор, который будто говорил: «Я ни вас, никого не боюсь!», – а затем вдруг опускала глаза, но лишь с тем, чтобы снова бросить на меня смелый, проникновенный взгляд, который уж теперь говорил: «Я вас всего читаю, как книгу, вы – мой.» И взгляд этот ее, то опускавшийся, то поднимавшийся, будто метал в меня цепкие сети, и с каждым таким броском все более приковывал меня к ней. Но самое поразительное в проворных действиях Кати надо мной заключалось в том, что я сам как будто умолял ее мысленно так поступить со мной, сам вверял себя в ее власть, и уж Кате ничего другого словно и не оставалось, как навсегда заключить меня в свой плен. Да, это был плен, плен любви, если хотите, но сколь сладостен был он, какого бездонного блаженства, какой неги был полон он! И, если вдруг любовь эта окажется безответной, кто посмеет обвинять Катерину, ведь я своим же взглядом, проникнутым чистосердечным признанием в моей безропотности и покорности, принудил ее обворожить себя.
Меж тем слова мои были глупы и все приходились не к месту. Я даже сказал, что неплохо было бы сходить куда-то позже, на выходных, быть может, на спектакль, а дальше зловонное имя само против воли сорвалось с губ:
– Даже вот на современные постановки пойду, если они вам нравятся, Кузнечиков там или…
На этих словах Катя покраснела и опустила взгляд; я был уверен, что она не только знала эти вездесущие имена, но что я успел оскорбить ее столь неуместным предложением.
– Боже, что я несу… извините, сорвалось… Меня и самого на эти постановки клещами не затащишь.
– Александр, – перебила меня Катя, уставшая от моей несмолкаемой речи.
– Можно просто: «Саша», – поправил ее я.
– Саша, я думаю, мы все устали после долгого дня, поэтому… зачем терять время? А вот в уютное местечко, полагаю, никто не откажется заглянуть.
На этих словах она выразительно оглядела подруг, но не все из них согласились пойти: кого-то дома ждал муж, кого-то – маленькие дети.
С Катей и Ксюшей, невысокой девушкой с восточным прищуром и смоляными волосами, удивительным образом сочетавшимися с ее белоснежной кожей, мы отправились в близлежащую кофейню. Стоит ли говорить, что все в Кате внушало мне трепет: то, как она свободно и бойко держалась, ничего не боясь и не смущаясь, как будто всегда была хозяйкой положения, с кем бы ни была и где бы ни была, ее открытость и одновременно замкнутость, когда она наотрез отказывалась отвечать на определенные вопросы – все это показывало, сколь зрелой она была, должно быть, намного более зрелой, чем я, застенчивый болтун.
Каким насмешливым становилось ее немного вытянутое лицо, когда я говорил что-то несносное и, по ее мнению, мальчишеское, каким лукавством оно сияло, когда я смешил ее, и она смеялась или улыбалась. Чем больше я узнавал Катю, тем больше хотел обладать ею, но она, будто нарочно, долгие месяцы играла со мной, не соглашаясь вступать в отношения, чем еще крепче привязывала к себе. Казалось, Катя медлила, потому что не была уверена, что сможет построить со мной крепкие отношения, не была уверена, что именно я был послан ей судьбой. Как будто судьба была действительна, как будто она была не выдумка человеческого сознания, не миф, основанный лишь на глупых предрассудках и нелепых страхах.
Как бы то ни было, я пишу все это сбивчиво, перескакивая с события на событие, быть может, оттого, что мне необходимо описать не месяцы, а целые годы наших жизней – огромную пропасть лет – уместив это все в одну рукопись, и читатель может что-то недопонять про Катю, решить, что она была хитрой, себе на уме, что она использовала свое обаяние и красоту с целью играть сердцами мужчин, даже получать какую-то материальную выгоду . Но это было совсем не так, и прошу простить меня, если вы заподозрили что-либо подобное. В действительности Катерина была иной, просто иной, она была… необыкновенно чистым и светлым человеком.
В самые темные минуты жизни своей, когда я терял последнюю веру в человечество, свою страну, всех русских, в самого себя, когда люди представлялись мне совершенными бесами, а земля – преисподней, одно воспоминание о Кате, как не о луче, о настоящем, огромном пламенном солнце – против воли выводило меня из тьмы. Я думал, что если есть на свете такая девушка, и не где-нибудь, а в самой России, то мое видение жизни как беспросветного мрака – есть ложь; более того, я вдруг осознавал, что есть что-то еще, что-то невыразимое и бездонное, неподвластное среднему уму и оттого неразгаданное мною, что-то, что мне отчаянно хотелось понять, но что понять я пока не мог, а стало быть, рано отчаиваться. Нужно было жить и бороться, и надеяться, что когда-нибудь я постигну суть явления столь возвышенных людей, как Катя, на нашей бренной земле.
В те серые декабрьские слякотные дни, когда мрачные облака все плотнее затягивали небеса, сковывая последние лучи зимнего неуютного солнца, когда ничто не предвещало дурного, или почти ничто, ведь это был 2013-ый год, и они жили тогда в Киеве, Парфен вышел из квартиры и принялся запирать дверь. Каждый день он до блеска начищал ботинки, протирал брюки, очищая их от грязи с тем только, чтобы выйти из подъезда и, еще не дойдя до машины, выпачкать их снова в лужах и грязи, размешанной еще в полвека назад разбитых бетонных дорогах двора.