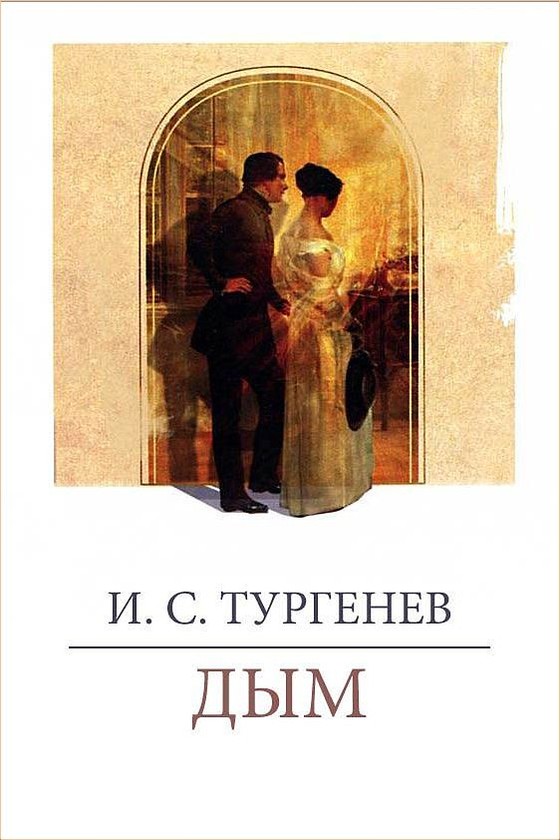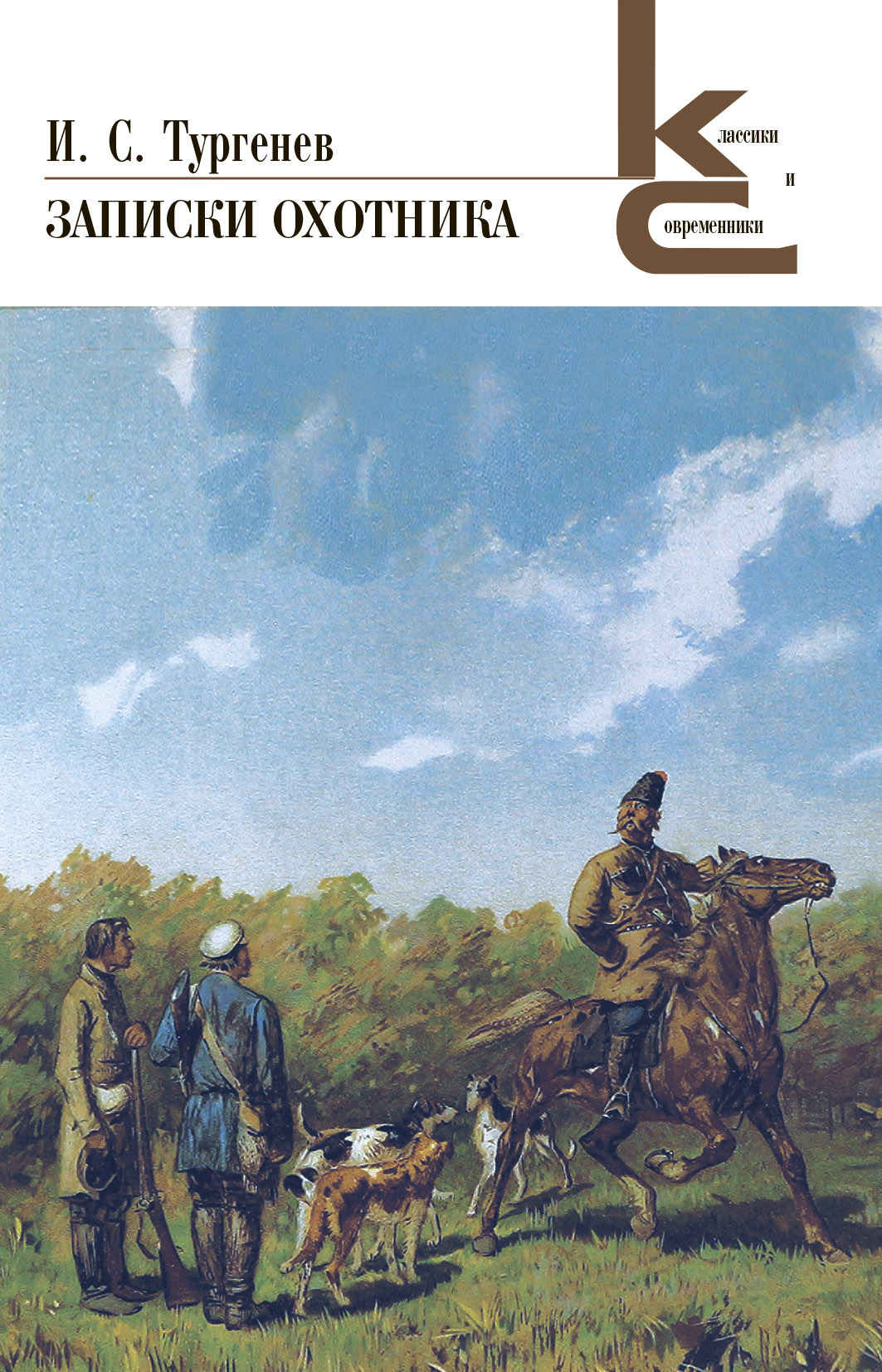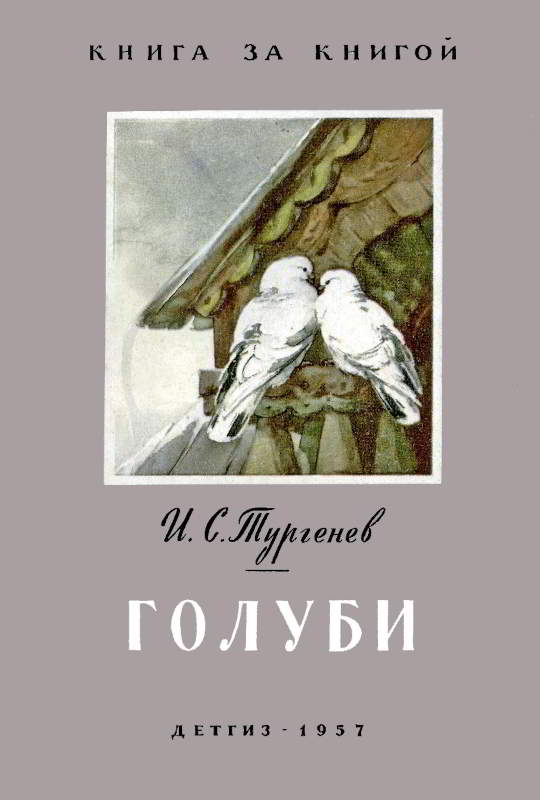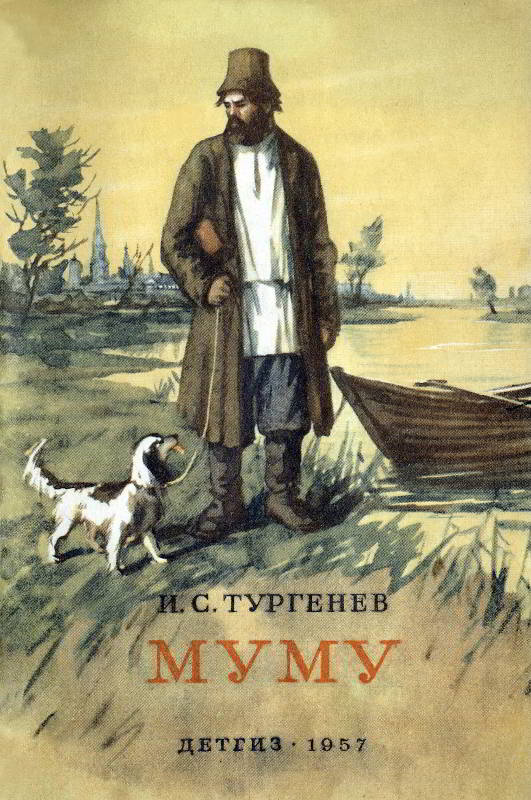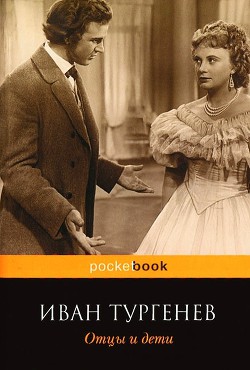но та, как только услыхала его фамилию: «Как? — говорит, — сметь знакомиться с автором Дяди Тома? — Да хлоп его по щеке! — Вон! — говорит, — сейчас!» И что ж вы думаете? Тентелеев взял шляпу да, поджавши хвост, и улизнул.
— Ну, это, мне кажется, преувеличено, — заметил Бамбаев. «Вон!» она ему точно сказала, это факт; но пощечины она ему не дала.
— Дала пощечину, дала пощечину! — с судорожным напряжением повторила Суханчикова, — я не стану пустяков говорить. И с такими людьми вы приятель!
— Позвольте, позвольте, Матрена Семеновна, я никогда не выдавал Тентелеева за близкого мне человека; я про Пеликанова говорил.
— Ну, не Тентелеев, так другой: Михнев, например.
— Что же этот такое сделал? — спросил Бамбаев, уже заранее оробев.
— Что? Будто вы не знаете? На Вознесенском проспекте всенародно кричал, что надо, мол, всех либералов в тюрьму; а то еще к нему приходит старый пансионский товарищ, бедный, разумеется, и говорит: «Можно у тебя пообедать?» А тот ему в ответ: «Нет, нельзя; у меня два графа сегодня обедают… п’шол прочь!»
— Да это клевета, помилуйте! — возопил Бамбаев.
— Клевета?.. клевета? Во-первых, князь Вахрушкин, который тоже обедал у вашего Михнева…
— Князь Вахрушкин, — строго вмешался Губарев, — мне двоюродный брат; но я его к себе не пускаю… Ну, и упоминать о нем, стало быть, нечего.
— Во-вторых, — продолжала Суханчикова, покорно наклонив голову в сторону Губарева, — мне сама Прасковья Яковлевна сказала.
— Нашли на кого сослаться! Она да вот еще Саркизов — это первые выдумщики.
— Ну-с, извините; Саркизов лгун, точно; он же с мертвого отца парчевой покров стащил, об этом я спорить никогда не стану; но Прасковья Яковлевна, какие сравненья! Вспомните, как она благородно с мужем разошлась! * Но вы, я знаю, вы всегда готовы…
— Ну полноте, полноте, Матрена Семеновна, — перебил ее Бамбаев. — Бросимте эти дрязги и воспаримте-ка в горния. Я ведь старого закала кочерга. Читали вы «Mademoiselle de la Quintinie?» * Вот прелесть-то! И с принципами вашими в самый раз!
— Я романов больше не читаю, — сухо и резко отвечала Суханчикова.
— Отчего?
— Оттого что теперь не то время; у меня теперь одно в голове: швейные машины.
— Какие машины? — спросил Литвинов.
— Швейные, швейные; надо всем, всем женщинам запастись швейными машинами и составлять общества *; этак они все будут хлеб себе зарабатывать и вдруг независимы станут. Иначе они никак освободиться не могут. Это важный, важный социальный вопрос. У нас такой об этом был спор с Боле́ слав Стадницким. Боле́ слав Стадницкий чудная натура, но смотрит на эти вещи ужасно легкомысленно. Всё смеется… Дурак!
— Все будут в свое время потребованы к отчету, со всех взыщется, — медленно, не то наставническим, не то пророческим тоном произнес Губарев.
— Да, да, — повторил Бамбаев, — взыщется, именно взыщется. А что, Степан Николаич, — прибавил он, понизив голос, — сочинение подвигается?
— Материалы собираю, — отвечал, насупившись, Губарев и, обратившись к Литвинову, у которого голова начинала ходить кругом от этой яичницы незнакомых ему имен, от этого бешенства сплетни, спросил его: чем он занимается?
Литвинов удовлетворил его любопытству.
— А! Значит, естественными науками. Это полезно как школа; как школа, не как цель. Цель теперь должна быть… мм… должна быть… другая. Вы, позвольте узнать, каких придерживаетесь мнений?
— Каких мнений?
— Да, то есть собственно какие ваши политические убеждения?
Литвинов улыбнулся.
— Собственно у меня нет никаких политических убеждений.
Плотный человек, сидевший в углу, при этих словах внезапно поднял голову и внимательно посмотрел на Литвинова.
— Что так? — промолвил с странною кротостью Губарев. — Не вдумались еще или уже устали?
— Как вам сказать? Мне кажется, нам, русским, еще рано иметь политические убеждения или воображать, что мы их имеем. Заметьте, что я придаю слову «политический» то значение, которое принадлежит ему по праву, и что…
— Ага! из недозрелых, — с тою же кротостью перебил его Губарев и, подойдя к Ворошилову, спросил его: прочел ли он брошюру, которую он ему дал?
Ворошилов, который, к удивлению Литвинова, с самого своего прихода словечка не проронил, а только хмурился и значительно поводил глазами (он вообще либо ораторствовал, либо молчал), — Ворошилов выпятил по-военному грудь и, щелкнув каблуками, кивнул утвердительно головой.
— Ну, и что ж? Остались довольны?
— Что касается до главных оснований, доволен; но с выводами не согласен.
— Ммм… Андрей Иваныч мне, однако, хвалил эту брошюру. Вы мне потом изложите ваши сомнения.
— Прикажете письменно?
Губарев, видимо, удивился: он этого не ожидал; однако, подумав немного, промолвил:
— Да, письменно. Кстати, я вас попрошу изложить мне также свои соображения… насчет… насчет ассоциаций.
— По методе Лассаля прикажете или Шульце-Делича? *
— Ммм… по обеим. Тут, понимаете, для нас, русских, особенно важна финансовая сторона. Ну, и артель… как зерно. Всё это нужно принять к сведению. Вникнуть надо. Вот и вопрос о крестьянском наделе…
— А вы, Степан Николаич, какого мнения насчет количества следуемых десятин? — с почтительною деликатностью в голосе спросил Ворошилов.
— Ммм… А община? — глубокомысленно произнес Губарев и, прикусив клок бороды, уставился на ножку стола. — Община… Понимаете ли вы? Это великое слово! * Потом, что значат эти пожары… эти… эти правительственные меры против воскресных школ, читален, журналов? * А несогласие крестьян подписывать уставные грамоты? * И, наконец, то, что происходит в Польше? * Разве вы не видите, к чему это всё ведет? Разве вы не видите, что… мм… что нам… нам нужно теперь слиться с народом, узнать… узнать его мнение? * — Губаревым внезапно овладело какое-то тяжелое, почти злобное волнение; он даже побурел в лице и усиленно дышал, но всё не поднимал глаз и продолжал жевать бороду. — Разве вы не видите…
— Евсеев подлец! — брякнула вдруг Суханчикова, которой Бамбаев, из уважения к хозяину, рассказывал что-то вполголоса. Губарев круто повернул на каблуках и опять заковылял по комнате.
Стали появляться новые посетители; под конец вечера набралось довольно много народу. В числе их пришел и господин Евсеев, так жестоко обозванный Суханчиковой, — она очень дружелюбно с ним разговаривала и попросила его провести ее домой; пришел некто Пищалкин, идеальный мировой посредник, человек из числа тех людей, в которых, может быть, точно нуждается Россия, а именно — ограниченный, мало знающий и бездарный, но добросовестный, терпеливый и честный; крестьяне его участка чуть не молились на него, и он сам весьма почтительно обходился с самим собою как с существом, истинно достойным уважения. Пришло несколько офицерчиков, выскочивших на коротенький отпуск в Европу и обрадовавшихся случаю, конечно, осторожно и не выпуская