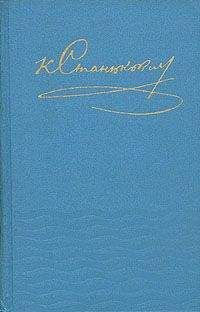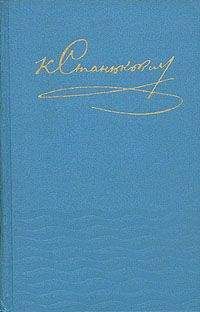беспокоила никого. Качка Немецкого моря приучила ко всем качкам.
Но вот 10-го декабря заревел ветер… И пошел аврал. Раздался свисток и вслед за ним зычный боцманский окрик:
— Пошел все наверх третий риф брать!
Ветер не шутит. Заревел он на просторе и застонал в снастях.
Океан словно рассердился, — вспенился. Забурлил и гонит высокие волны, седые гребешки которых бешено разбиваются в серебристую пыль о бока корвета.
Словно птица морская летит корвет… Нет ему препятствия… Грациозно, легко подымается он на волнистую гору и снова опускается, имея ее уже за кормой… Только дрожь какая-то идет по всему судну, да дух захватывает у непривычного, если за борт посмотреть… Одна пена, густая пена сердито клокочет сбоку.
Словно бешеные, бросаются матросы наверх… Рассыльный врывается в кают-компанию, «всех наверх», говорит, и сам летит наверх. Все бежит сломя голову… Для не моряка показалось бы, что судно ко дну идет… такая суматоха.
Андрей Федосеич, старый лейтенант, из породы таких, которые любят матроса и в то же время не прочь его побить, несется на бак, на лету надевает пальто и еще со шканец кричит, простирая руки к небесам: «на местах стоять!», не замечая в усердии к службе, что все на местах стоят…
Все идет хорошо… Обезьянами взбежали матросы по марсам и расползлись по реям. Работа у них кипит… Они делают свое трудное матросское дело и изредка промеж себя без всякой злобы переругиваются.
Офицеры стоят внизу, и от нетерпения многих словно трясучка берет. Они покрикивают, да подчас в припадке служебности и прошипят сквозь зубы: «Петров… ах ты…», но фразы не доканчивают, ибо недавно только что приказ капитанский вышел, запрещающий к службе не идущие окончания.
Крепят паруса и… о ужас! У фок-мачты одна веревочка, махонькая такая веревочка, нейдет… Уж Андрей Федосеич простер к небесам руки, но пока еще крепится. И только в безмолвии кажет изрядный кулак на марс… А веревка, чтобы ей пусто было, словно нарочно нейдет.
В этот-то злосчастный момент — момент, многим морякам знакомый, раздается крик:
— На баке! Что делают?.. Отчего снасть не идет?..
Андрей Федосеич напускается на Никитича.
— Ну, уж и боцман!.. Чего смотришь?.. Смотри, смотри же! — пустил Андрей Федосеич fortissimo [15].
Наконец терпение Андрея Федосеича лопается, и он шумно забывает недавний приказ об окончаниях, к службе не идущих.
Никитич только сплюнул на сторону и сам, по окончании выговора, стал ругаться направо и налево (больше для очистки совести), выделывая такие замысловатые и чисто артистические вариации на тему поминания родственников, которые, конечно, незнакомы сухопутному жителю и в которых моряки дошли до виртуозного совершенства.
Изругав родственников и ближайших знакомых и унтер-офицера Матвеича, что под руку подвернулся, ни в чем неповинного в веревочке, Никитич снова сплюнул и засвистал по-соловьиному в дудку.
Матвееву, в свою очередь, захотелось на ком-нибудь потешиться. «За что мне-то попало!» Он взбежал на марс, дал незаметного стрекача молодому матросу Гаврилке, виновному, что не шла снасть, и, сорвав таким манером сердце, незаметно же сошел вниз.
Почесался Гаврилка… Нельзя было сорвать ему сердце на предмете одушевленном (а уж как хотелось!), и он сперва выругал на чем свет стоит бедную веревку и только тогда ее раздернул.
— А ты что драться лазил? — замечает Андрей Федосеич.
— Согрешил, ваше благородие, просто сами на грех наводят.
— Согрешил… Ах ты, подлая шкура, — сурово замечает стоящий сбоку Леонтий.
— Ты, смотри, не драться… А то просушу… Слышишь?
— Да помилуйте, ваше благородие. Я-то что же один терпеть буду? — жалобно говорил Матвеев, — меня ж обфилатили… а я уж и не смей… Они за все подводят.
— Нну… Терпи!
— Не стерпишь, — под нос себе ворчит унтер-офицер и уходит.
Но, увидев, что Андрей Федосеич ушел, он не мог удержаться (так велика привычка), чтобы не показать отошедшему Гаврилке хоть издали кулака; потом подошел к нему и сказал:
— А уж ты, швандырь окаянный!.. Смотри!.. Скажи, варвар ты этакой, за тебя я нешто ответы принимать должон? Погоди, голубчик… усахарю…
— Чего усахаришь-то?
— Ужо припомню, — шипит змеей унтер-офицер, — припомню, голубчик, припомню, лентяйка вологодская… припомню.
— Ну, чаво вы пристали-то… Матвеич?
— Не разговаривать! — крикнул офицер и обернулся.
Матвеев юркнул за мачту.
— Что, брат, — с участием тихо шепчут Гавриле другие матросы, — отошло?
— Отошло, братцы, — говорит Гаврила, махнув рукой, и идет снасть тянуть.
— Андрей Федосеич!.. Андрей Федосеич!.. Посмотрите, ради бога, — кричит шканечный офицер, — контра-брас у вас не тянут!..
Голос и лицо этого офицера выражают такую искреннюю грусть и такое отчаяние, что не моряк подумал бы, что он о пособии просит, говоря, что, мол, малые дети с голоду умирают. Но моряк в душе, конечно, поймет все это отчаяние и грусть…
Рифы взялись благополучно… «Подвахтенные вниз!» — скомандовал старший офицер.
Матросы «невахтенные» тоже сошли на палубу.
— Уж как ты, Гаврилка, прозевал… просто не знаю… Трес я тебе, трес снасть-то… ровно ослеп ты, право.
— Какое ослеп… видать-то видал я, что надо ее раздернуть, да думаю… сама, подлая, раздернется… а она, каторжная, и не раздернулась… Под марсом, выходит, заело… Как не заметить-то! — поясняет Гаврилка. — А уж я Матюшке-подлецу не спущу… Съездил… хоша и не больно, а съездил… Еще, говорит, припомню… Ишь, раскуражился!
— Ну его к богу, Гаврилка… Ишь толчки считать вздумал.
— Ужо съедем на берег… взмылю его… право, взмылю…
— Ну уж и взмылишь… врешь!
— А нешто не взмылю. Хайло ему начищу!
— Ты что тут раскричался! — замечает боцман, проходя мимо.
— Да как же, Никитич… за что Матвеев обидел понапрасну… Ныне и господа не дерутся, а тут всякой в рожу лезет, ровно в свою.
— Ну, говори!.. Что ж и не лезть!.. С вашим братом иначе нельзя. Надо когда и в рожу.
Тем и кончилось все дело.
Скоро забылись неприятности авральной работы, и по всем уголкам палубы пошли разговоры… лясы матросские…
Гаврила уже рассказывал, как он проводил в отпуску время… Около него составился порядочный кружок.
— Ты, Гаврилка, сказывай, как ублажали-то тебя… в деревне, когда на побывку ходил.
— Известно… ублажали… Потому рази матрос — солдат… Солдат что? Только и знает делов, что «на плечо», да «на караул», да «здравия желаем»… а ты теперь сумей брамсель крепить да лот кинуть… И нешто понимает он, что такое лот?.. Опять не понимает, потому солдат, и где ему это понять?.. Пришел я, братцы, в село накануне самого Миколина дня [16]… Прямо вошел в избу… Почали ахать да охать… Ох, Гаврилко, да какой ты, говорят, куцый да поджарый стал… ровно тебя не кормили, говорят, долго…