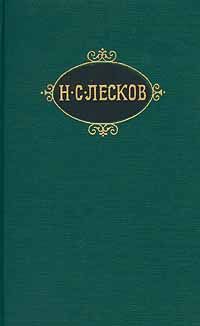– Ну… ведь в вас, князь, в самом есть частица рюриковской крови, – добродушно заметила Онучина.
– У него она, кажется, в детстве вся носом вытекла, – сказала княгиня, не то с неуважением к рюриковской крови, не то с легкой иронией над сыном.
Старая Онучина опять понюхала табаку и тихо молвила:
– Говорят… не помню, от кого-то я слышала: разводы уже у нас скоро будут?
– Едва ли скоро. По крайней мере, я ничего не слыхал о разводах, – отвечал князь.
– Это удивительно! Твой дядюшка только о них и умеет говорить, – опять вставила Стугина.
Князь улыбнулся и ответил, что Онучина говорит совсем не о полковых разводах.
– Ах, простите, пожалуйста! – серьезно извинялась княгиня. – Мне, когда говорят о России и тут же о разводах – всегда представляется плацпарад, трубы и мой брат, Кесарь Степаныч, с крашеными усами. Да и на что нам другие разводы? Совсем не нужно.
– Совершенно лишнее, – поддерживал князь. – У нас есть новые люди, которые будут без всего обходиться.
– Это нигилисты? – воскликнула m-lle Вера. – Ах, расскажите, князь, пожалуйста, что вы знаете об этих забавных людях?
Князь не имел о нигилистах чудовищных понятий, ходивших насчет этого странного народа в некоторых общественных кружках Петербурга. Он рассказывал очень много курьезного о их нравах, обычаях, стремлениях и образе жизни. Все слушали этот рассказ с большим вниманием; особенно следил за ним Долинский, который узнавал в рассказе развитие идей, оставленных им в России еще в зародыше, и старая княгиня Стугина, Серафима Григорьевна, тоже слушала, даже и очень неравнодушно. Она не один раз перебивала Стугина вопросом:
– Ну, а позвольте, князь… Как же они того, что, бишь, я хотела это спросить?..
Стугин останавливался.
– Да, вспомнила. Как они этак…
– Живут?
– Нет, не живут, а, например, если с ними встретишься, как они… в каком роде?
Князь не совсем понял вопрос; но его мать спокойно посмотрела через свои очки и подсказала:
– Я думаю, должно быть что-нибудь в роде Ягу, которые у Свифта.
– Что это за Ягу, княгиня?
– Ну, будто не помните, что Гулливер видел? На которых лошади-то ездили? Ну, люди такие, или нелюди такие: лохматые, грязные?
– Ну, что это? – воскликнула Серафима Григорьевна. – Неужто, князь, они, в самом деле, в этом роде?
– Немножко, – отвечал, смеясь, Стугин.
– Полагаю, трудно довольно отличить коня от всадника, – поддержала сына княгиня.
– Ну, что это! Это уж даже неприятно! – опять восклицала Онучина, воображая, вероятно, как косматые петербургские Ягу лазят по деревьям в Летнем саду, или на елагинском пуанте и швыряют сверху всякими нечистотами. – И женщины такие же бывают? – спросила она через секунду.
– Два пола в каждом роде должны быть необходимо – иначе род погибнет.
– Это ужасно! А, впрочем, ведь я как-то читала, что гориллы в Африке, или шампаньэ, тоже будто уносят к себе женщин?
Серафима Григорьевна вся содрогнулась.
Князь Сергей очень распространился насчет отношении нигилисток к нигилистам и, владея хорошо языком, рассказал несколько очень забавных анекдотов.
– Дуры! – произнесла, по окончании рассказа, Серафима Григорьевна.
– И пожить-то как следует не умеют! – смотря через очки, добавила княгиня.
– Но это все презабавно, – заметила Вера Сергеевна и вышла с молодым князем на террасу.
– Довоспиталась сторонушка! Дозрела! Скотный двор настоящий делается! – презрительно уронила Стугина.
Серафима Григорьевна понюхала с особенным удовольствием табачку и, улыбнувшись, спросила:
– Вы, Елена Степановна, помните Вастилу?
– Княжну Палагею Никитишну? – спросила, немножко надвинув брови, Стугина.
– Да.
– Ну, кто ж ее не помнит.
– Но, впрочем, та ведь… то все-таки совсем в другом роде?
– Ну, еще бы! Старушки обе задумались.
– Или княгиню Марфу Викторовну в ту пору, как она со своим мужем рассталась? – спросила Серафима Григорьевна опять через минуту.
– Уж именно! – отвечала, покачав головой, Стугина.
– Бес в нее вселился. Очень уж проказила!
– Проказила, княгиня; но как хороша-то была! Серафима Григорьевна с умилением смотрела на стену, вообразив перед собою воспоминаемую княгиню Марфу Викторовну.
Теперь, в свою очередь, Стугина понюхала табачку и, как бы нехотя, спросила:
– Да, была хороша, точно… да с кем, бишь, она из России-то пропала?
– Из России? Из России она уехала с этим… как его?.. ну, да все равно – с французским актером, а потом была наездницей в цирке, в Лондоне; а после князя Петра, уж за границей, уж самой сорок лет было, с молоденькой и с прехорошенькой женой развела… Такая греховодница!
– А потом-то! Потом-то! – опять воскликнула, оживляясь, Серафима Григорьевна.
– Да, с галерником, я слышала, в Алжир бежала.
– Страшный был такой!
– Помню я его – араб, весь оливковый, нос, глаза… весь страсть неистовая! Точно, что чудо как был интересен. Она и с арабами, ведь, кажется, кочевала. Кажется, так? Ее там встретил один мой знакомый путешественник – давно это, уж лет двадцать. У какого-то шейха, говорят, была любовницею, что ли.
– Да, да, да; и им-то, и этим шейхом-то даже как ребенком управляла! – подсказывала, все более оживляясь и двигаясь на кресле, Серафима Григорьевна.
– Или княжна Агриппина Лукинишна! – произнесла она через минуту, смотря пристально в глаза Стугиной.
– Княжна Содомская, как называл ее дядя Леон, – проронила в видах пояснения Стугина. – Не люблю ее.
– За что, княгиня?
– Так, уж чересчур как-то она… специалистка была великая.
– Ну, не говорите этого, душечка княгиня; в Сибири она себя Бела, может быть, как никто.
– Что же это именно? Что за мужем в ссылку-то пошла? Очень великое дело.
– Нет-с, мало что пошла, а как жила? Что вынесла?
– Я думаю, ничуть не больше других.
– Сама белье ему стирала, сама щи варила, в юрте какой-то жила…
– Ну, и что ж тут такого? Что ж тут такого удивительного?
– Да вон кузен Gregoire – вы знаете, ведь его после амнистии тоже возвратили.
– Слышала.
– Говорит, что все они – эти несчастные декабристы, которые были вместе, иначе ее и не звали, как матерью: идем, говорит, бывало, на работу из казармы – зимою, в поле темно еще, а она сидит на снежку с корзиной и лепешки нам раздает – всякому по лепешке. А мы, бывало: мама, мама, мама, наша родная, кричим и лезем хоть на лету ручку ее поцеловать.
Серафима Григорьевна сморгнула слезу и кашлянула.
– Как, бывало, увидим ее, – продолжала Серафима Григорьевна, – как только еще издали завидим ее, все бежим и кричим: «Мама наша идет! Родная идет!»—совсем как галченята.
Серафима Григорьевна не совладела со слезой и должна была отвернуться.
– Это прекрасно все, – начала тихо Стугина, – только героизма-то все-таки тут никакого нет. Бабки наши умели терпеть, как им ноздри рвали и руки вывертывали, а тут—что ж тут такого, скажите на милость?.. Еще бы в несчастии бросить!
– А ведь бросают же, княгиня, – возразила, поворачиваясь, Серафима Григорьевна.
– Приказничихи или поповны, очень может быть – не стану спорить.
– Ну, нет, княгиня, я знаю… я вот теперь слышала про одну, совсем не приказничиху, а…
– Ах, помилуйте, ma chere[51] Серафима Григорьевна! Не знаю, кого вы такую знаете, или про кого слышали; но во всяком случае, если это не приказничиха, так какая-нибудь другая personne meprisabie,[52] о которой все-таки говорить не стоит.
Серафима Григорьевна помолчала и потом, смакуя каждое свое слово, произнесла:
– А я, как вы хотите, все опять к княжне Агриппине. Как там хотите говорите, ну, а все… из этакой роскоши… из света… и в какую-то дымную юрту… Ужасно!
– Вы это так говорите, как будто бы вы сами не пошли бы ни за что?
– Ах, нет; боже меня сохрани! Не дай бог такого несчастья; но, разумеется, пошла бы.
– Ну, так что же вы так восхваляете княжну Агриппину Лукинишну! Конечно, все-таки и она была не бишка какая-нибудь, а все-таки женщина; но ведь, повторяю, если такие ничтожные вещи ставить женщине в особую заслугу, так, я думаю, очень много найдется имеющих совершенно такие же права на дань точно такого же изумления.
– Ах, боже мой! Представьте, я ведь совершенно забыла, что ведь и вы тоже…
– Да я что там была – без году неделю… а, впрочем, да: белье мужу тоже стирала и даже после мужниной смерти пироги нашим арестантам верст за семь в лотке носила.
– По снегу!
– Какой наивный вопрос, та chere Серафима Григорьевна! – Княгиня весело засмеялась. – Вы, пожалуйста, не сердитесь, что я смеюсь: я вспомнила, как вы боитесь снегу.
– Ах, ужас! Зима это… это… оцепенение; это… я просто не знаю, что это такое.
Стугина смотрела в открытую дверь и вспомнила что-то особенно для нее милое и почтенное.
– Нет, вот, – сказала она вздохнув, – вот графиню Нину, да ее гувернантку… Как она называлась: Eugenie или Eudoxie, этих женщин стоит вспомнить и перед именами их поклониться.