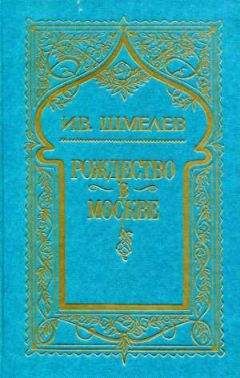Ознакомительная версия.
Взяло меня раздумье. Кто он? Правильный или плутяга благочестием прикрылся? Слухи-то. И вот что еще приметил. Как говорил с хозяином, молодцы его все заходили. Зайдет один, глянет на меня быком таким, – будто ведро берет. Другой заглянет – узду повесит. Все побывали, поглядели. И все как на подбор, гвардейцы. Будто… разглядывают, глазами по пожиткам шарят. Тревожное меня кольнуло. Слухи-то…
Ямщик к лошадям ходил. Приходит, озабоченный, и шепотком мне: «Можно бы и ехать, да оглобля, гляжу, сломалась, а все жива была… разве об стояк воротный? Дорогой, правда, что скрипела. Надо оглоблю у хозяина просить». Толкнуло меня – ехать. Проси оглоблю! Приходит: «хозяин говорит – заночуйте лучше, с огнем не пойду в сарай выбирать, сыны легли, хотите – свяжите свою оглоблю, уезжайте с Богом, не жалко нам». Вот, думаю, попали в монастырь.
А еще такая вышла штука. И как раз, когда входили парни. Пятьсот рублей были у меня в боковом кармане, в тужурке, пачкой, сотняжками, – с деньгами я просто обращался. Забыл, вытаскиваю «Русское Слово» из кармана, пачка и выскочи на стол, а со стола под стол. Хозяин поднял и говорит: «какими деньгами-то швыряешься… ай легкие за планты дарят? – с ухмылочкой. – Не боишься с такими… нашими лесами ездить. И лошадей отымут и… А ты ночью еще хотел, лошадей требовал. Вон и гололедь пошла».
Постелила хозяйка мне на лавке, ямщика где-то в постоялке положили. Лег, не могу уснуть, полезли мысли. А еще мне ямщик, как про оглоблю говорил, шепнул: «поберегитесь, барин… что-то наши хозяева мне не ндравятся, волками смотрят… и парни давече чего-то все шептались, приметил я». Мысли и завозились: и оглобля, и… главное – деньги показал! Мужики-то смеялись – «он пригре-ет!» Слухи слухами, а что-то за ними есть. С праведником грех бывает, а тут за деньги, ох, как держатся, видно по всему. Погляжу на лампадку, на Распятие… – нет, быть не может. Петух пропел – не сплю. Лошадь переступит – так и вздрогну. Прислушиваюсь… – глухота-а… только крупой дерет, в оконце. Лес, жилья не видно. Вынул из шубы браунинг, сбоку положил. Всегда с 905-го возил в дорогу. Чуть забылся – вздрогнул, как пронзило: скрипнуло дверью из сеней. Вскипело, – и мороз по коже, упало сердце. И вижу, при лампадке, – белая тень… высокий… вытянул голову в покой… и слышу шепот: «спит..?» Застыл я, слышу… – «спит… востро наточил?., давай…» Так и провалился я в лед, а слышу – нервы-то как струна: «сразу ты..!» Вытянул ручищу, блеснуло при лампадке… нож! И, босиком, ко мне… пригнулся… Помню, – машинально, браунинг «на бой», веду к груди, перед собой… сейчас… К столу вильнуло, тенью! Как я не выстрелил, не крикнул…!? К столу, и – р-раз! – по кол-ба-се-э!! Как треснула бумажка, слышал… – и, тенью, испарился? Тут уж я провалился в жар, в такое облегчающее, в раж какой-то, чуть не загоготал от счастья. Прямо бежать хотел за парнем, всю колбасу отдать и наградить. Все тут и разрешилось, все я понял: и самого «Упора», и – какую-то стихийность его правды. Так озарило меня «счастьем». Не мог заснуть, от встряски. Думал: славная семья… – в розовом для меня все стало, – есть еще «патриархи» на Руси, кряжи, живут «заветом». Все «слухи» испарились, все стало ясно, до грешка-соблазна колбасой. Привык к насиженному месту, вот и остался на «старинке», ребята молодцы, деньжонки сбереженные пустил в дело, лесными разработками занялся, самое родное дело, в промысла пошел, мужик резонный, умный. Нет, не прикрывается, а «правильный». Дал себе слово помочь «Упору» в тяжбе, намекнуть сторонкой насчет ошибки на генеральном плане, чтобы просил о пересмотре. Трудно это, но можно, по высочайшему указу.
На заре мы починились, простились с хозяином, – он был такой же строгий, хмурый, – и дернуло меня! не удержался. Корю и не корю себя за это. Не корю, потому что получил урок, хороший. Нет, сглупил, не надо было. Говорю, что вот чуть было не случилось страшного, из-за пустяка… чуть не убил кого-то из молодцов… «Упор» весь подтянулся, выкатил глаза воловьи… – «ш-шшто-о..?!..» – не сказал, а хрипнул, будто ошпарил этим шшшто-о..?! Я повернул на шутку, но «Упору» не до шуток было. Пальцем мне так – «постой…» Тут уж мне скверно стало. Хозяин крикнул в дверь: «Андрюшка..!» Оклик был железный, затаенный. Я подумал: почему – Андрюшка? Вошел Андрюшка, младший, но тоже рослый, розощекий, в пушку таком, как полупарни наши, чистые еще. Братья собирались за дровами, были на дворе у лошадей. Вошел, готовый, в полушубке, снял шапку. «Подь сюда…» – каким-то нутряным подзывом сказал «Упор». Тот пододвинулся. Юное его лицо сказало все. Стал перед отцом, потупясь. Стыд, жгучий стыд, покорность, безответность, сознание неотвратимого и должного – было во всей его фигуре. Такое чистое и детское сознание вины и – искупления. Мне вдруг открылось, что это – за мою вину. Открылось в его глазах. Миг – и… удар! Не по лицу, а… по загривку, как выстрел, сухо. Андрюшка вдруг согнулся, как неживой, без звука, и метнулся вон. Все произошло в мгновенье. «Упор» блеснул зубами, на меня, с пронзающим, холодным взглядом. «Вот, барин… – сказал он задыхаясь, с дрожью, – твоя колбаска… чего стоит!., кто всему причина?!..» И так, рукой будто ударил, – вышел. Я понял, что он меня ударил. Ударил крепче, чем Андрюшку, – все сказал.
Когда мы отъезжали, двор уже опустел. «Упор» не провожал. Я позвал хозяйку. Она пришла, расстроенная, денег не приняла: «не велел хозяин». Как же так..? «Не знаю, не велел». Даже не сказала: «счастливо ехать». Я был расстроен. Ехал по ухабам и повторял растерянно и, право, не без восхищенья: «ка-ков… у-пор!» Ямщик мой обернулся и подмигнул: «во какой, су-рьезный… го-ло-ва!»
Вторая «встреча» – через двенадцать лет, – как бы эпилог.
Весной 22-го года взяли меня большевики в подвал. Всю губернскую чертежную арестовали, за обман и ограбление трудящихся: обманными «плантами» мы грабили народ и продались помещикам. Нас опустили в подвалы бывшей «монопольки». Всякого сорта было, – «на все – про все». Было до полсотни мужиков. Их взяли за «вооруженное восстание при изъятии церковных ценностей». И тут я встретился с «Упором».
Что-то меня стесняло подойти к нему. Он поседел, но не подался: ходил все так же властно, как у себя. Одет был чисто, в новом беленом полушубке. С ним был солдат, лет 28, такой приятный. Я сразу узнал Андрюшку, по глазам. Рука его была обернута тряпицей. Они держались вместе.
Мне рассказали всю историю. Кстати: тяжбу он-таки выиграл. Глину мужикам вернули, «по царскому указу». Так и не узнал «Упор», как выплыла ошибочка: какой-то безымянный «благодетель» намекнул в письме.
На бунт подбил «Упор». Мужики хотели отступиться, говорили: «ладно, пущай их отбирают… наше придет – лучше еще укупим». Но пришел «Упор», «с картечью», и привел обоих сыновей-солдат, с винтовками. «Старшого убили на войне, в Мазурах, в болотах. Середний с Врангелем уехал. А двое воротились живы. Привел, приставил к церкви. Стал кричать, сердито: „Как можно дозволять такое! за Божье дело, за правду Божию душу свою надо положить! от Бога отступиться… чего ж тогда останется?!..“ И заплакал. И мужики расстроились, разгорячились… – не дадим! Теперь вот свянули, а то кричали: „бей в набат, сбивай народ!“ Ихнюю комиссию отшили, по шеям попало. Три дня дежурили у церкви. Были и еще солдаты, и охотники наши, с дробовиками: кто-что, „Упор“ командовал с сынами, сам из гвардейцев, прежний, службу знает. Староста еще церковный, старичок, мед скупал по уездам… ох, шибко тоже горячился. Там его и убили, на паперти. Выбег из церкви с запрестольным образом, стращать – сразу и срезали из пулемета. Партию они своих пригнали, с пулеметом. Супротив пулемета – где ж! В церкви мужики засели, палили через окна. Энтих штук восемь повредили, двоих убили. Тогда и Сеню Упорова убили, отошел во храме. Их четыре дня томили без воды, и уж патронов не хватило. Взяли мужиков обманно, бумагу прочитали, что отнимать не будут, и всем прощенье. Мужики вышли, а „Упор“ не вышел, не дал веры, и сын при нем. Так их и взяли. Старик сидел над убиенным своим Сеней, читал молитву, Андрюшке руку прострелили».
Мы встретились у крана, брали воду. Старик узнал меня: «а, земномер… вон где привелось столкнуться». Оживился: «а дельце-то, с глиной, на правду повернуло. Господь помог». Вспомнил и про «колбаску». И Андрюшка вспомнил – улыбнулся. Три дня мы были вместе, подружились. Сказал мне, шепотком, чтобы Андрюшка-то не слышал: «решат нас, чую… а правду не решат!» Он помягчел и посветлел. Все его очень почитали. Даже и те – считались. Комендант, свирепый, на перекличках вычитывал раздельно: «Михаил… Васильевич… – и делал передышку, – гражда-нин У-поров!» И смотрел внимательно, – где он? – и как бы с любопытством, пытливым глазом. Было даже так. Солдатишка-страж улучил минуту и шепнул: «может домой чего сказать, отец… передам я, истинный Бог, все передам». Говорил старик: «тут меня уважают, сказки про меня мужики забыли, теперь доверились… и что подбил-то – не серчают, ничего, прониклись перед концом-то, что за правду». Внуки у него росли, семеро внуков и три внучки. Трое сынов женаты были. Говорил: «моя старуха воспитает их в страхе Божием, в законе». Жалел Андрюшку: «следа-то не оставит, се-мя… ох, хороший». И прибодрялся: «нас, пятерых, не станет, – вдвое будет по нас… жив наш корень». Сказал еще: «есть по всей России… не извести». Все вспоминал про сыновей: «молодчики-то каки все были-и… – и слезы у него блестели, смаргивал, – правильные были… сколько моя старуха хлебнула горя!.. внуков поставить на ноги, жива коль будет… по совету у нас с ней все, и это… все по совету». Мягко говорил, поокивал. «Вот, барин, и расхлебываем, а не мы варили. Нам такого не выдумать: умные наварили, а нам расхлебывать. И умным тоже приходится, дохлебывать… – мотнул он в сторону, где были взятые из чистых. – К тому тянули. Ничего, пройдет. Котел наш крепкий, всех не изведешь, заварим. Смоем грех. Это, барин, уж за все расплата».
Ознакомительная версия.