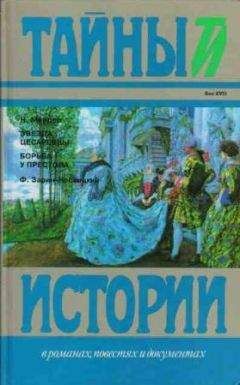Хотя Рейнгольд следовал за Натальей Федоровной на расстоянии полушага, с обычным видом светского человека, провожающего даму, но в той манере, с какой Наталья Федоровна раза два повернула к нему голову и что‑то скат зала, по той улыбке, с какой он ответил на ее слова, Шастунов инстинктом влюбленного понял, что они не чужие друг другу.
Его сердце похолодело. Как прикованный, остался он на месте, когда мимо него, шурша атласом платья, ослепительно красивая, как всегда, прошла Лопухина, благоухая незнакомым ему запахом тонких духов. Она не заме^ тилаего.
Приход Лопухиной был встречен, как всегда, сдержант ным шепотом восторга. Казалось, к ее красоте до сих пор не могли привыкнуть.
Лопухина с сияющей улыбкой, кивая направо и налево, прошла среди расступившихся гостей прямо в залу, где, окруженные своим штатом и блестящей молодежью, сидели принцессы. Герцогиня равнодушно поздоровалась с ней, а Елизавета, как всегда, встретила ее сухим враждебным взглядом и холодно ответила на ее низкий реверанс.
Лопухину тотчас же окружили, и она сразу, как обычно, сделалась центром всеобщего внимания. Шастунов издали следил за ней, полный ревнивого отчаяния.
Рейнгольд отделился от толпы и прошел дальше к хозяйке дома.
Легкое прикосновение к плечу заставило Шастунова остановиться и повернуть голову. За ним стоял де Бриссак, смотря на него проницательными темными глазами, с легкой улыбкой на губах.
– Дорогой друг, – сказал виконт. – Я так давно не видел вас, – и он протянул Шастунову руку.
Шастунов почти обрадовался ему. Почему‑то под взглядом этих умных, доброжелательно смотрящих на него глаз ему стало легче.
– А, это вы, господин колдун, – улыбаясь, сказал он, пожимая протянутую руку. – Ваши пророчества сбылись. Я был в Митаве…
– А, – воскликнул де Бриссак, – не следует преувеличивать моих способностей, милый друг. Очень часто то, что кажется колдовством, объясняется чрезвычайно яросто… Вас удивило, – продолжал он, – что я, только что приехавши в ночь 19 января, уже знал об избрании теперешней императрицы и о предложенных ей условиях? Прекрасный юноша, я открою вам свою тайну. Но уйдемте из толпы.
Он взял Шастунова под руку, и они прошли в маленькую залу, где сели в отдаленный угол, закрытые высокими цветами.
– Ну, так вот, – начал, посмеиваясь, Бриссак. – Прежде всего, я приехал еще накануне и был у моего друга, французского резидента. 19 января приехали одни мои вещи из Парижа, сам же я – только от Маньяна. Я не хотел, чтобы это было известно, и от заставы меня известили о прибытии вещей, так что я приехал с ними вместе. Избрание состоялось в три часа ночи, и мой друг не оправдал бы доверия своего правительства, если бы в половине четвертого не знал об этом, когда об этом уже знали сотни людей. Вас еще смущает вопрос, откуда я узнал об ограничении власти императрицы, – продолжал виконт, – но это также просто, и вы перестанете удивляться, когда я объясню, в чем дело. Это вопрос простой логики. В ночь избрания уже громко говорили, что Верховный тайный совет задумал ограничить самодержавную власть русских государей. Но никто не знал, как именно и чем. Так?
Шастунов кивнул головой.
– Теперь сопоставьте с этим тот факт, что ваш замечательный по уму и просвещенности князь Дмитрий Михайлович удостаивает с давних пор большой дружбы господина Маньяна. Всем это известно. Еще при жизни императора князь в дружеской беседе с резидентом не раз указывал на несовершенство государственного строя в России и развивал свои проекты. Он даже вместе с господином Маньяном обсуждал вопрос о преимуществах конституций – польской, английской и шведской. Естественно, что князь Голицын имел единомышленников в русском обществе, в чем имел случай убедиться господин Маньян, и я открываю вам дипломатическую тайну, о чем он поставил в известность свой двор. Не правда ли, все это очень просто?
Шастунов снова кивнул головой.
– Самый выбор на престол герцогини Курляндской, то есть лица, не имевшего прямого права на корону и, следовательно, наиболее податливого, показывает стремление совета осуществить то ограничение власти, о каком мечтал князь Дмитрий. И это поняли все.
– Все это просто, – задумчиво сказал Шастунов. – Вы могли знать и об избрании герцогини Курляндской, и о готовящемся ограничении ее власти…
– И, естественно, о депутации в Митаву, – смеясь, перебил его де Бриссак. – Ведь должна же была узнать герцогиня о своем избрании!..
– Да, – ответил Шастунов. – Но почему вы знали, что в составе посольства еду я, и еще…
Шастунов смущенно замолчал.
– И про черные глаза? – тихо и серьезно произнес де Бриссак. – В этом вы правы. Это не так просто. Но я уже напоминал вам, что у Сент – Круа вы видели такие же удивительные вещи. Мы не пророки, не ясновидящие, но иногда можем приподнять уголок будущего…
– «Мы»? Кто» мы»? – в волнении спросил Шастунов. – Вы способны нагнать страх!.. – И он нервно засмеялся.
– Страх? – спросил де Бриссак. – Разве мы проповедники зла? Разве в кружке Сент – Круа вы видели или слышали что‑нибудь, что могло бы противоречить истинной добродетели?
– Нет, нет, – торопливо воскликнул Шастунов, – нет!.. Сент – Круа и его друзья забросили в мою душу новые мысли. Они пробудили во мне жажду свободы, братства с людьми и всемирного счастья.
Де Бриссак слушал его, опустив глаза.
– Мы не ошиблись в вас, – тихо начал он. – Но вы еще так молоды и в вас слишком сильна жизнь. Вы еще не научились владеть собою и побеждать свои страсти. Но в вас есть прекрасные задатки. Все остальное придет со временем, если, если.
Де Бриссак не кончил. Облако печали прошло по его благородному лицу, он словно с грустной нежностью взглянул на юное лицо князя.
– Если? – с невольным трепетом спросил князь.
– Вы стоите на пороге страшных событий и жестокого будущего, – не отвечая на вопрос князя, произнес де Бриссак. – Vae victis![16] – закончил он, вставая.
– Я не смею расспрашивать вас, виконт, – взволнованно сказал Шастунов, поднимаясь с места. – Но, ради Бога, один вопрос…
– Спрашивайте, дорогой друг, – ласково ответил виконт.
– Скажите, кто вы? – произнес Шастунов.
Де Бриссак выпрямился, глаза его сверкнули, и, подняв руку, он торжественно и медленно ответил:
– Мы – рыцари Кадоша, мы – рыцари Креста Розы, мы слуги свободы и добродетели, мы сеятели правды во имя Верховного существа – Солнца Любви и Справедливости! Настанет время, когда наши братства непрерывной сетью покроют весь мир, – тихо и страстно продолжал он. – Со звоном падут цепи рабства народов! Во имя свободы духа мы боролись с Римом и с папством и с их религией ненависти! Мы боролись с исламом! Боролись с инквизицией! У нас тоже есть герои и были мученики!.. Наши верховные братья уже распространили налгу веру в Англии, Шотландии, Германии и Франции. Она найдет своих учеников и в вашей великой и благородной стране!..
– Так вы… – начал Шаетунов.
Но де Бриссак словно опомнился. Он овладел собою, лицо его приняло обычное выражение.
– Тсс! – улыбаясь, произнес он. – Мы, кажется, забыли, что находимся на балу. Пойдемте, дорогой друг, лучше полюбоваться на черные, голубые и серые глаза ваших красавиц.
При словах де Бриссака о черных глазах Шастуновым сразу овладела ревнивая тоска. Он молча последовал за виконтом в большую залу.
– Но клянусь, – воскликнул де Бриссак, – ни в одной столице мира я не видел столько красавиц!
Его восклицание могло быть искренне. Тут был цвет красоты. Цесаревна Елизавета, величественная и стройная, с короной темно – бронзовых волос и большими, яркими, голубыми глазами, олицетворенная женственность и грация, полная томной неги и почти чудесного обаяния; Наталья Федоровна, трагическая красота Юсуповой, нежная прелесть Наташи Шереметевой, невинные личики Юлианы и Адели и строгое, точеное, как из мрамора, лицо Вареньки Черкасской.
Около цесаревны стоял сам канцлер и, слегка наклонившись, слушал ее. Макшеев что‑то нашептывал Адели, Дивинский стоял за стулом Юсуповой, а молодой Артур Вессендорф, не сводя влюбленного взгляда с Лопухиной, о чем‑то оживленно говорил, и она слушала его со своей обычною манерой слушать ласково – внимательно, так что каждому говорящему с ней казалось, что он сумел ее исключительно заинтересовать, отчего действительно каждый в разговоре с ней был интереснее обыкновенного.
В этой блестящей, оживленной толпе красавиц только две сохраняли на своем лице выражение печали: Наташа Шереметева и баронесса Юлиана.
Шастунов хотел подойти к этому кружку, но чувство самолюбия и ревнивой злобы не позволяло сделать этого. Он взглянул на де Бриссака и вдруг был пора? жен странным выражением его лица. Оно было чрезвычайно бледно. Вместо недавнего восторга на нем виднелось почти выражение ужаса. Широко открытые глаза не отрываясь смотрели на эту прекрасную, живописную группу.