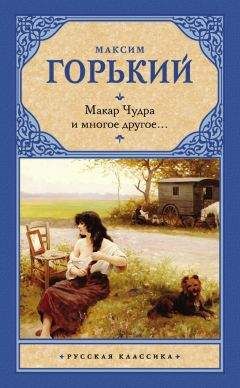Вдруг остановилась, прижавшись ко мне, говоря с упреком:
– И до зимы не дожил… Ах, господи, господи, что же это такое?
Потом протянула мне руку, мокрую от слез.
– Прощайте. Он вас очень хвалил. Хоронить – завтра.
– Проводить вас до дому?
Она оглянулась.
– Зачем же? Теперь – день, не ночь.
Из-за угла переулка я посмотрел вслед ей, – шла она тихонько, как человек, которому некуда торопиться.
Был август, уже с деревьев падал лист.
У меня не нашлось времени проводить вотчима на кладбище, и я никогда больше не видел эту девушку…
Каждое утро, в шесть часов, я отправлялся на работы, на Ярмарку. Там меня встречали интересные люди: плотник Осип, седенький, похожий на Николая Угодника, ловкий работник и острослов; горбатый кровельщик Ефимушка; благочестивый каменщик Петр, задумчивый человек, тоже напоминавший святого; штукатур Григорий Шишлин, русобородый, голубоглазый красавец, сиявший тихой добротой.
Я знал этих людей во второй период жизни у чертежника; каждое воскресенье они, бывало, являлись в кухню, степенные, важные, с приятною речью, с новыми для меня, вкусными словами. Все эти солидные мужики тогда казались мне насквозь хорошими; каждый был по-своему интересен, все выгодно отличались от злых, вороватых и пьяных мещан слободы Кунавина.
Больше всех мне нравился тогда штукатур Шишлин, я даже просился в артель к нему, но он, почесывая золотую бровь белым пальцем, мягко отказал мне:
– Рано для тебя, наша работа – нелегкая, погоди год-другой…
Потом, взметнув красивой головою, спросил:
– Али не ладно живется? Ну, ничего, потерпи, сожмись крепче в самом себе, тогда – стерпишь!
Не знаю, что дал мне этот добрый совет, но я благодарно запомнил его.
Они и теперь приходили к моему хозяину утром каждого воскресенья, рассаживались на скамьях вокруг кухонного стола и, ожидая хозяина, интересно беседовали. Хозяин шумно и весело здоровался с ними, пожимая крепкие руки, садился в передний угол. Появлялись счеты, пачка денег, мужики раскладывали по столу свои счета, измятые записные книжки, начинался расчет за неделю
Шутя и балагуря, хозяин старался обсчитать их, а они – его; иногда крепко ссорились, но чаще – дружно смеялись.
– Эх, милый человек, а и жуликом ты родился! – говорили мужики хозяину.
Он отвечал, сконфуженно посмеиваясь:
– Ну, и вы, звери-курицы, тоже довольно жуликоваты!
– Да ведь как иначе, друг? – сознавался Ефимушка, а серьезный Петр говорил:
– Тем и жив, что украдешь, а что выработаешь – богу да царю…
– Вот и мне охота объегорить вас! – смеялся хозяин.
Они добродушно поддерживали его:
– Поддедюлить, значит?
– Подкузьмить?
Григорий Шишлин, прижимая руками к груди пышную бороду, певуче просил:
– Братцы, а давайте просто дела делать, без обмана? Ведь ежели честно жить, – так ведь как хорошо, спокойно, а? Народ родной, а?
Голубые глаза его темнели, увлажнялись; был он в эти минуты удивительно хорош; всех как будто немножко смущала его просьба, все сконфуженно отворачивались от него.
– Мужик на много не омманет, – вздыхая, ворчал благообразный Осип, как бы жалея мужика.
Темный каменщик, согнув над столом сутулую спину, густо говорил:
– Грех – что болото: чем дале, тем вязче!
И в тон речам их хозяин бормочет:
– Я – что же? Откликаюсь, как аукнется…
Пофилософствовав; снова пытаются надуть друг друга, а рассчитавшись, потные и усталые от напряжения, идут в трактир пить чай, пригласив с собою и хозяина.
На Ярмарке я должен был следить, чтобы эти люди не воровали гвоздей, кирпича, тесу; каждый из них, кроме работы у моего хозяина, имел свои подряды, и каждый старался стащить что-нибудь из-под носа у меня на свое дело.
Они встретили меня ласково, а Шишлин сказал:
– Помнишь, ты просился в артель ко мне? А теперь – эвон куда тебя вознесло, будешь надо мной начальником, а?
– Ну, ну, – балагурил Осип, – стереги да береги, бог тебе помоги!
Петр недружелюбно заметил:
– Нарядили молодого журавля управлять старыми мышами…
Мои обязанности жестоко смущали меня; мне было стыдно перед этими людьми, – все они казались знающими что-то особенное, хорошее и никому, кроме них, неведомое, а я должен смотреть на них как на воров и обманщиков. Первые дни мне было трудно с ними, но Осип скоро заметил это и однажды, с глазу на глаз, сказал мне:
– Вот что, паренек, ты не надувайся, это ни к чему – понял?
Я, конечно, ничего не понял, но почувствовал, что старик понимает нелепость моего положения, и у меня быстро наладились с ним отношения откровенные.
Он поучал меня где-нибудь в уголке:
– Середь нас, коли хочешь знать, главный вор – каменщик Петруха; он человек многосемейный, жадный. За ним – гляди в оба, он ничем не брезгует, ему всё годится: фунт гвоздей, десяток кирпича, мешок известки – всё подай сюда! Человек он – хороший, богомол, мыслей строгих и грамотен, ну, а воровать – любит! Ефимушка – в баб живет, он – смирный, он для тебя безобидный. Он тоже умный, горбатые – все не дураки! А вот Григорий Шишлин – этот придурковат, ему не то что чужое взять, абы свое – отдать! Он работает вовсе впустую, его всяк может оммануть, а он – не может! Без ума руководится…
– Он – добрый?
Осип посмотрел на меня как-то издали и сказал памятные слова:
– Верно, добрый! Ленивому добрым быть – самое простое; доброта, парень, ума не просит…
– Ну, а сам ты? – спросил я Осипа. Он усмехнулся и ответил:
– Я – как девушка, – буду бабушкой, тогда про себя и скажу, ты погоди покуда! А то – своим умом поищи, где я спрятан, – поищи-ка вот!
Он опрокидывал все мои представления о нем и его друзьях. Мне трудно было сомневаться в правде его отзывов, – я видел, что Ефимушка, Петр, Григорий считают благообразного старика более умным и сведущим во всех житейских делах, чем сами они Они обо всем советовались с ним, выслушивали его советы внимательно, оказывали ему всякие знаки почтения.
– Сделай милость, посоветуй ты нам, – просили они его; но после одной из таких просьб, когда Осип отошел, каменщик тихо сказал Григорию:
– Еретик.
А Григорий, усмехаясь, добавил:
– Паяц.
Штукатур дружески предупреждал меня:
– Ты гляди, Максимыч, – со стариком надо жить осторожно, он тебя в один час вокруг пальца обернет! Этакие вот старички едучие – избави боже до чего вредны!
Я ничего не понимал.
Мне казалось, что самый честный и благочестивый человек – каменщик Петр; он обо всем говорил кратко, внушительно, его мысль чаще всего останавливалась на боге, аде и смерти.
– Эх, ребята-братцы, как ни бейся, на что ни надейся, а гроба да погоста никому не миновать стать!
У него постоянно болел живот, и бывали дни, когда он совсем не мог есть; даже маленький кусочек хлеба вызывал у него боли до судорог и мучительную тошноту.
Горбатый Ефимушка казался тоже очень добрым и честным, но всегда смешным, порою – блаженным, даже безумным, как тихий дурачок. Он постоянно влюблялся в разных женщин и обо всех говорил одними и теми же словами:
– Прямо скажу: не баба, а цветок в сметане, ей-бо-о!
Когда бойкие кунавинские мещанки приходили мыть полы в лавках, Ефимушка спускался с крыши и, становясь где-нибудь в уголок, мурлыкал, прищурив серые живые глаза, растягивая большой рот до ушей.
– Экую бабочку ядреную привел мне господь; этакая радость низошла до меня; ну, и что же это за цветок в сметане, да и как же мне судьбу благодарить за этакий подарок? Да я от такой красоты жив – сгорю!
Сначала бабы смеялись над ним, покрикивая одна другой:
– Глядите-ко, как горбатый тает, а – батюшки!
Насмешки нимало не задевали кровельщика, его скуластое лицо становилось сонным, он говорил, точно в бреду, сладкие слова текли пьяным потоком и заметно опьяняли женщин. Наконец какая-нибудь, постарше, говорила удивленно подругам:
– Вы послушайте, как мужик мается, чисто молодой парень!
– Птицей поет…
– Али нищим на паперти, – не сдавалась упрямая.
Но Ефимушка не был похож на нищего; он стоял крепко, точно коренастый пень, голос его звучал всё призывнее, слова становились заманчивей, бабы слушали их молча. Он действительно как бы таял ласковой, дурманной речью.
Кончалось это тем, что во время паужина или после шабаша он, покачивая тяжелой, угловатой головою, говорил товарищам изумленно:
– Ну, и какая же бабочка сладкая да милая, – перво-й раз в жизни коснулся эдакой!
Рассказывая о своих победах, Ефимушка не хвастался, не насмешничал над побежденной, как всегда делали другие, он только радостно и благодарно умилялся, а серые глаза его удивленно расширялись.
Осип, покачивая головою, восклицал:
– Ах ты, неистребимый мужчина! Который тебе годок пошел?
– А годов мне – четыре на сорок. Да это – ничего! Я сегодня лет на пяток помолодел, как в реке искупался, в живой воде, оздоровел весь, на сердце – покойно! Нет – ведь какие женщины бывают, а?