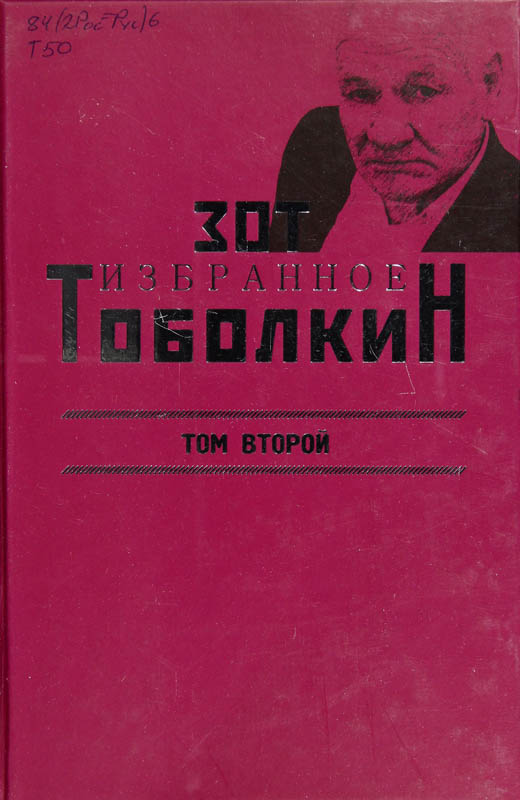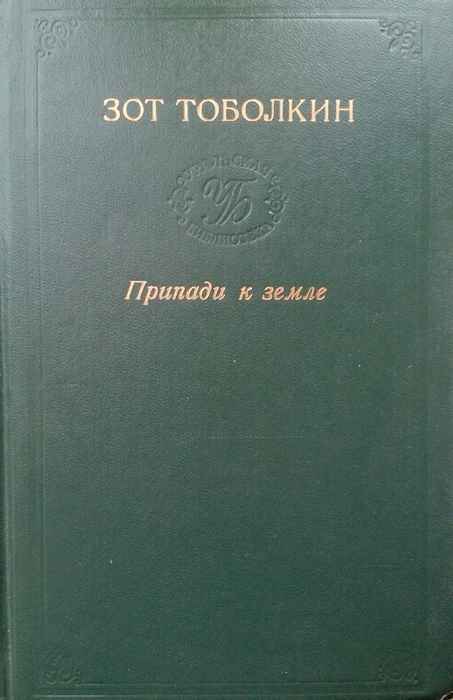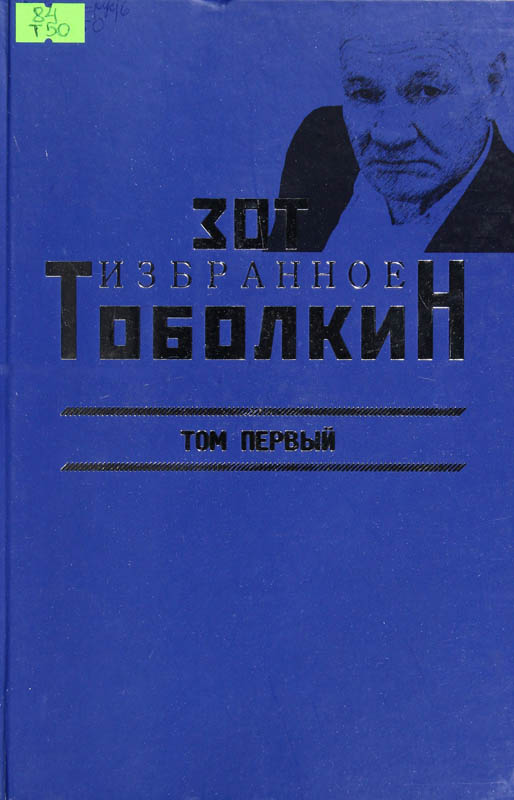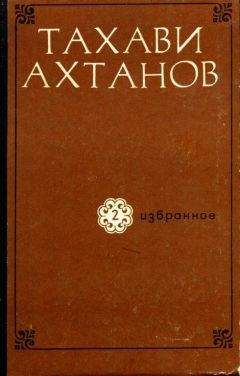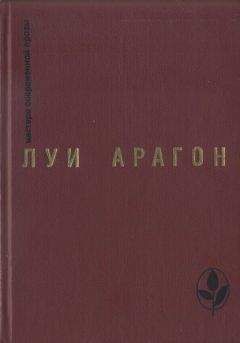оскорбился. Слишком сильно ныло обмороженное тело. Хотелось сна и покоя.
Не гася лампу, Афанасея прилегла на пол и долго недвижно лежала, уставясь сухими тоскующими глазами в потолок, на который легли неясные тени.
Не спалось.
- Я на дежурство пойду. Утре до свету скройся, чтоб единая душа не узнала!
Придя на конный, упала на кучу сена в проходе между стойлами. Попыталась уснуть.
Сено приятно холодило щёки, пахло свежо и пряно.
О чём-то гулко вздыхали кони, изредка переступая копытами.
В дальнем углу хрупала овёс жеребая каурой масти кобылица. Была она неутомима и в работе и в любви. Невелика росточком, а на рысь лиха. В оглоблях вожжи рвёт. Статью не взяла, и красотой природа обделила, а жеребцы грызлись из-за неё до крови.
О чём вздыхают кони?
Каурая кобылёнка млеет от материнских предчувствий, слушая, как бьётся в утробе жеребёнок.
Рыжко, неутолимая боль Панкратова, грустит о приволье. Как и хозяин его, он своеволен и зол. Кроме Науменко и Афанасеи, никого к себе не допускает. И волки его боятся. Конюхи в ночном, выпустив жеребца, спокойны: зверью не поддастся и табун в обиду не даст. В минуты ярости он слепо страшен. Огнистая, волнами бьющая на упругой шее грива мечется по ветру. Огромные копыта несут гибель. Он не летит над землёй, как вороные Фатеева, он раскалывает землю своими мощными ногами, врезаясь в её проломы. Если рядом стоит молодая кобылёнка, Рыжко вдребезги разносит перегородки. Щедр на любовь Рыжко и добр в своей большой любви. Афанасея не раз примечала, когда неукротимый пламенный конь, зверовато скалясь, гнал от озера лошадей, пока не напивалась каурая кобыла.
«Надёжный конёк!» – улыбалась Афанасея. Ей по-прежнему не спалось. Выкрутив фитиль, поднялась и подошла к стойлу. Рыжко оторвался от кормушки, скосил большие жаркие глаза.
- Тоскливо, Рыжко?
Жеребец развернулся в узком стойле, потёрся мордой о её плечо.
- Ох он, рыженький мой! – растроганно бормотала женщина, поглаживая бугристую шею коня. – Умница моя! На волю охота? Потерпи! Теперь уж скоро...
Открылась дверь. Огонь в фонаре скакнул вверх, лизнул прокопчённое стекло.
Рыжко смутился, отвернулся от света.
- Чего надо? – недовольно спросила Афанасея. – Тебе спать велено было!
- Не могу, – просипел Науменко.
Он простыл. В теле был жар. Губы осыпало...
- Ты изобиделась на меня, Афанасея? А я... это... Ну, словом, прости! Я тоже человек. Понимаю. Пьяный был...
- Выметайся! – яростно выкрикнула Афанасея.
Она сперва не хотела сердиться, дивясь нежданному проявлению его искренности. Гнев вспыхнул исподволь и теперь заполнял её всю.
- Не сердись. Боле не потревожу. Так уж вышло. – Он виновато просил прощения, и гнев Афанасеи, неожиданно вспыхнув, неожиданно и погас. Против воли её потянуло к этому человеку. Боясь этого жуткого и сладкого влечения, она попыталась заглушить его сердитыми словами. Но голос стал слаб и жалко намокал обидой за свою уступчивость.
- Ты что это? Один раз проехал со мной, дак уж решил, что всё можно? А я не тебя ради... Я коня берегла...
- Дура! – начиная сердиться, поверил её лжи Науменко. – Я с открытой душой, а ты...
Он удивительно хорошо, мило сердился. И дурой обозвал как-то по-особому, необидно. Так лишь один Фатеев умел. Афанасея думала, что это никогда не повторится.
Сглотнув слюну, сказала:
- Ты приходи ко мне... после, когда стемнеет. – И оттолкнула его.
У амбаров гремел засовами Дугин, невидный в тени навесов. Проходя мимо него, Науменко остановился.
- Раненько, Алёха! – раздалось из темноты. – В твои года об эту пору токо с бабочкой нежиться...
- Зайди ко мне!
Печь в конторе ещё хранила вчерашнее тепло. Повесив на крючок шубу, Науменко снял гимнастёрку и, прижавшись к печке, расстегнул ворот рубахи.
Лестница заскрипела.
Шёл Дугин.
- Ну и темень у тебя, Алёха! – он занёс уличный холод.
- Сейчас зажгу.
Засветив лампу, вывернул тесьму, скинул рубаху, пошёл на Дугина.
- Помнишь?! – показывая багровые рубцы на спине со следами ожогов, спрашивал он.
- Тише, Алёха! Вдруг кто заглянет?
- Боишься? Кулакам служить не боялся?
- Не шуми. Разве мыслимо говорить такое по нонешним временам? Всё ты напутал с похмелья. Говори, зачем вызывал, – уже совсем спокойно потребовал Дугин. – Не красоту же свою показывать.
«И верно: чего это я распинаюсь перед ним?» Науменко оделся, заговорил вяло, чуть слышно. Не хватало ни злости, ни сил, чтобы довести начатый разговор, как задумал. Лишь память не утихала, вминая в прошлое.
...Отпросившись у эскадронного, Науменко поскакал к Марии. Познакомился он с ней месяц назад, когда часть стояла в