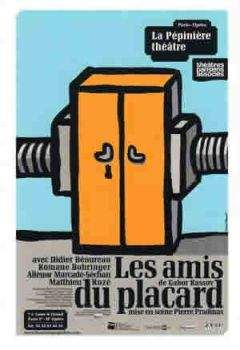моргая и раздувая ноздри. — Я что, не смогу его поднять?
— Он тяжелый, но ты, надеюсь, поднимешь… Я вот смогла поднять, и папа тоже, когда мы его получили от своих родителей… Правда, мы были старше. Но ты получишь сейчас. Ты куда более зрелый, чем другие дети в детском саду… и чем были мы в твоем возрасте. «Должен быть более зрелым», — добавляет она про себя.
— Зрелый, как персик? — Глаза у Марци блестят, во рту скапливается слюна: ему вспомнился вкус мягкого, сочного персика. Дома, летом, на берегу Тисы, они часто ели персики, очистив, разрезав пополам и вынув косточку.
Мать кивает, вздохнув. Марци гордо поднимает голову. Лицо его розовеет. Он уж забыл, когда случалось вот так разговаривать с мамой, сидя у нее на коленях.
— Подарок этот — не какой-то предмет. Не игрушечная машинка, скажем… Это — знание. Может, не очень приятное знание, зато — правда. Детям твоего возраста этого еще не доверяют, но ты должен знать.
Мать приближается к сути дела постепенно: нужные слова она находит не сразу. Марци же явно рад этой неторопливости, хотя его и распирает от любопытства. Это немного похоже на то, как его заставляли искать подарок, спрятанный в комнате, а папа с мамой подсказывали: холодно, тепло, еще теплее, горячо, горячо!
— Ты будешь взрослым раньше, чем другие дети, и потому должен раньше узнать правду. Так вот: Микулаша — нет. Микулаш — это вроде Бабы-Яги или гнома из сказки. Кто-нибудь из взрослых надевает красную куртку, колпак, будто он Микулаш, и раздает детям подарки, которые на самом деле приготовили им родители. Здесь, в лагере, никакого Микулаша не будет, а я не могла тебе подарок купить, потому и решила сказать правду. Так что гордись! Ты, наверно, единственный семилетний мальчик на свете, кто знает правду. Считай это подарком.
Лицо у Марци пылает. Он чувствует, что у него кружится голова: ведь он стал обладателем такого невероятного знания! Такого знания — мама же сказала! — какого не дано больше ни одному ребенку… Но больше всего он гордится не этим, а мамой и папой, которые посчитали его достойным и доверили ему эту взрослую тайну. Он горд и растроган. В голове у него роятся вопросы, но ни один из них он не может сформулировать четко. Он даже не знает, надо ли говорить спасибо за такой подарок, как за мяч или за ружье, стреляющее пробками. У мамы на глазах слезы, хотя она никогда не плачет, когда дарит подарок, только становится розовой от волнения; а ведь подарок не ей дарят, а дарит она!.. Марци чувствует, он должен что-то сделать: ведь мама сказала, что он почти взрослый, а взрослый мальчик — это мужчина, значит, он должен защищать и утешать девочек — так ему говорил папа, — а мама в конце концов тоже девочка, только она выросла.
— Ничего, ничего, все в порядке! — Он гладит маму по голове. Вот так его утешают взрослые, когда он плачет. Мама крепко обнимает его, потом начинает раздевать, готовя ко сну. Марци терпеть не может раздеваться перед другими, но тут ничего не поделаешь, тут даже женщины раздеваются и одеваются у всех на глазах. В этот вечер мама не заставляет его мыться основательно. В тазу, где перед этим мылась бабушка, вода серая, мутная, да и остыла уже. Две печки-буржуйки дают тепло, только если ты рядом с ними. Воздух в бараке — спертый, тяжелый; нужду обитатели справляют в два ведра, отгороженные простыней. Окна в бараке открываются редко, и все равно тут зябко.
Марци еще нужно почистить зубы: на этом мама настаивает; можно подумать, что тут каждый вечер проводится зубоврачебный осмотр. После этого можно надеть штаны, майку, рубашку, свитер — и забираться на нары. Бабушка то ли спит, то ли просто лежит, отвернувшись к стене. Марци устраивается на своем неудобном месте. Мама еще внизу, занята своими делами. В таких случаях ей нельзя мешать. Она умывается, но Марци не подглядывает за ней. Вначале остальные тоже говорили ему, чтобы он отвернулся, но потом перестали обращать на него внимание: подумаешь, ну болтается здесь мальчишка, когда они подмываются, ну и что? Дома Марци подглядывал иногда в замочную скважину, когда мама принимала ванну, а здесь надо делать вид, будто он ничего не видит, что бы ни делали, как бы ни оголялись женщины, а уж тем более мама. К этому можно быстро привыкнуть; куда труднее — к вспыхивающим внезапно сварам, когда женщины злобно, грубо кричат, как дети в детском саду или как охранники, а то и в волосы друг другу вцепляются, даже дерутся по-настоящему. Причем чаще всего ссоры начинаются из-за мелочей: скажем, из-за какой-нибудь печеной картофелины. Мама тоже участвует в таких перепалках. Марци не может на это смотреть, отворачивается, прячется; хотя картошки ему очень хочется. Почему-то ему стыдно — а ведь стыдиться надо бы взрослым. Он не злится на других, даже когда голоден; разве что плачет. Но в этот вечер в бараке тихо: люди словно понимают, что сегодня нельзя ссориться, сегодня придет Микулаш. То есть — именно что не придет, потому что нет его, Микулаша.
Марци кажется, что он и так всегда знал: никакого Микулаша не существует, это сказка, выдумка. И все-таки ему немного грустно: ведь это было так здорово, ждать, когда бородач в красном колпаке придет со своим красным мешком, а потом слушать в детском саду, что и кому Микулаш сказал, потому что он знает о детях все. Теперь, по крайней мере, Марци не будет его бояться. Микулаша боялся даже толстяк Колония, только признаваться не хотел в этом.
Марци крутится, кряхтит, пытаясь найти удобную позу. Шепотом спрашивает бабушку: «Ты спишь?», но та или в самом деле спит, или притворяется — ей не до разговоров. Марци хочет сказать ей, что никакого Микулаша нет. Бабушка и так знает, конечно, только не знает, что и он теперь это знает.
Мама тоже наконец влезает на нары и укладывается спать. В бараке гаснет свет. В темноте светятся только раскаленные докрасна буржуйки. Марци готов смотреть на них часами; жаль, что видно их только ночью, когда хочется спать. Если есть в лагере что-то интересное, то это печки-буржуйки. Дома ни за что не увидишь такого странного свечения, не услышишь звуков, которые они издают.