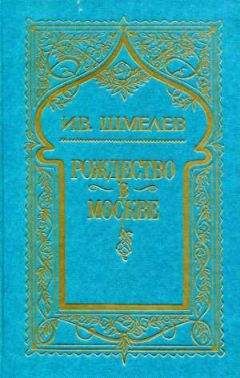Ознакомительная версия.
На пребойкой торговой улице, на Фридрихштрасе, зашли в приятное помещение. Часа два малый по полкам лазил, – «давай получше!» Всякие марки видели, английские и голландские… – «а получше!» Развел руками. Выложил натуральную, свою, – «нет лучше!» Глядим… – знакомое. Перемигнулись. «Цена?» – «Фир хун-дерт. – Глазом не моргнул. – Выше этого сорта быть не может». Говорим – «правильно». И копию фактуры ему под нос: «Катина гофрировка, бисерная, экстра… Москва…» – иголочки белошвейной Катиной, шедевр! Ахнул малый с хозяином. А мы хозяину: «Выше этого сорта быть не может? покорнейше вас благодарим». 180 процентиков наварцу! Хохотал хозяин!.. Сосисками угощал и пивом.
Мало мы свое знали, мало себя ценили.
Гуси, сыры, дичина… – еще задолго до Рождества начинало свое движение. Свинина, поросята, яйца… – сотнями поездов. Волга и Дон, Гирла днепровские, Урал, Азовские отмели, далекий Каспий… – гнали рыбу ценнейшую, красную, в европах такой не водится. Бочками, буковыми ларцами, туесами, в полотняной ру-башечке-укутке… – икра катилась: «салфеточная-отборная», «троечная», кто понимает, «мешечная», «первого отгреба», пролитая тузлуком, «чуть-малосоль», и паюсная, – десятки ее сортов. По всему свету гремел русский «кавьяр». У нас из нее чудеснейший суп варили, на огуречном рассоле, – не знаете, понятно, – калью. Кетовая красная? Мало уважали. А простолюдин любил круто соленую, воблину-чистяковку, мелкозернисторозовую, из этаких окоренков скошенных, – 5–7 копеек фунт, на газетку лопаточкой, с походом. В похмелье – первейшая оттяжка, здорово холодит затылок.
Так вот-с, все это – туда. Аоттуда – тоже товар по времени, веселый: галантерея рождественская, елочно-украшающий товарец, всякая щепетилка мелкая, игрушка механическая… – Наши троицкие руку набили на игрушке: овечку-коровку резали – скульптора дивились! – пробивали дорожку за-границу русской игрушке нашей. Ну, картиночки водяные, краски, перышки-карандашики, глобусы всякие учебные… все просветительно-полезное, для пытливого детского умишки. Словом, добрый обмен соседский. Эх, о ситчике бы порассказать, о всяких саратовских сарпинках… много, не буду отклоняться.
Рождественский пост – легкий, веселый пост. Рождество уж за месяц засветилось, поют за всенощной под Введенье, 20 ноября, – «Христос рождается – славите…» И с ним – суета веселая, всяких делов движенье. Я вам об обиходце все… ну, и душевного чуть коснусь, проходцем. А покуда – пост, рыба плывет совсюду.
Вы рыбу российскую не знаете, как и все прочее-другое. Ну где тут послужат тебе… на-важкой?! А она самая предрождественская рыбка, точно-сезонная: до Масленой еще играет, ежели мясоед короткий, а в великом посту – пропала. Про наважку можно большие страницы исписать. Есть такие, что бредят ею, так и зовут – «наважники». У ней в головке парочка перламутровых костянок, с виду – зернышки огуречные, девочки на ожерелья набирали. С детства радостно замирал, как увижу, бывало, далекую, с Севера, наважку, – зима пришла! – в кулечке мочальном-духовитом, снежком чуть запорошенную, в сверканьях… – вкуса неописуемого!
Только в одной России ее найдете. Первые знатоки-едалы, от дедушки Крылова до купца Гурьева, наважку особо отличали. А что такое – снеточек белозерский? Тоже знак близкого Рождества. Наш снеток – всенародно-обиходный. Говорят, Петр Великий походя его ел, сырьем, так и носил в кармане. Хрустит на зубах, с песочку. Щи со снетком или картофельная похлебка… – ну, не сказать!
О нашей рыбе можно великие книги исписать… – сиги там розовые, маслистые, селедка переславльская, ряпушка, корюшка, копчушка, шемая, стерлядка, севрюжка, осетрина, белуга, семга, белорыбица, нельма – недотрога-шельма, не дается перевозить, лососина семи сортов… А вязигу едали, нет? рыбья «струна» такая. В трактире Тестова, а лучше еще – у Судакова, на Варварке, – пирожки-растегаи с вязигой-осетринкой, к ухе ершовой из живорыбных садков на Балчуге!., подобного кулинария не найдете нигде по свету. А главная-то основа, самая всенародная, – сельдь-астраханка, «бешенка». Миллионы бочек катились с Астрахани – во всю Россию. Каждый мастеровой, каждый мужик, до последнего нищего, ел ее в посту, и мясоедом, особенно любили головку взасос вылущивать. Пятак штука, а штука-то чуть не в фунт, жирнеющая, сочнющая, остропахучая, но… ни-ни, чтобы «духовного звания», а ежели и отдает, это уж высшей марки, для знатоков. Доверенные крупнейших фабрик, «морозовских», ездили специально в Астрахань, сотнями бочек на месте закупали для рабочих, на сотни тыщ, это вот кровь-то с народа-то сосали! – по себе-стоимости отпускали фабричные харчевые лавки, по оптовой! Вот и прикиньте задачку Евтушевского: ткач в месяц рублей 35–40 выгонял, а хлеб-то был копеечка с четвертью фунт, а зверь-селедка – пятак, а ее за день и не съесть в закусочку. Ну, бросим эти при-кидочки, это дело специалистов.
В Охотном Ряду перед Рождеством – бучило. Рыба помаленьку отплывает, – мороженые лещи, карасики, карпы, щуки, судаки… О судаках полный роман можно написать, в трех томах: о свежем-живом, солено-сушеном и о снежной невинности «пылкого мороза»… – чтение завлекающее. Мне рыбак Трохим на Белоозере такое про судака рассказывал… какие его пути, как его изловишь, покуда он к последней покупательнице в кулек попадет… – прямо в стихи пиши. Недаром вон про Ерша-Ершовича, сына Щетинникова, какое сложено, а он судаку только племянником придется… – поэзия для господ поэтов! А Трохим-то тот с Пушкиным родной крови.
Крепко пахнет с низка, в Охотном. Там старенькая такая церковка, Пятницы-Прасковеи, редкостная была игрушечка, века светилась розовым огоньком лампадки из-за решетчатого окошечка, чуть не с Ивана Грозного. И ее, тихую, отнесли на… амортизацию. Так там, узенький-узенький проходец, и из самого этого проходца, аршина в два, – таким-то копченым тянет, с коптильни Барановых, и днем и ночью. Там, в полутемной лавке, длинной и низенькой, веками закопченной, для ценителей тонкой рыбки выбор неописуемый всякого рыбного копченья. Идешь мимо, думаешь об эдаком высоком и прекрасном, о звездах там, и что, к примеру, за звездами творится… – и вдруг пронзит тя до глубины утробы… и хоть ты сыт по горло, потянет тебя зайти полюбоваться, и уйдешь довольный, до самого сердца прокопченный, с кульком бараковского богатства. На что уж профессора, – университет-то вот он, – а и они забывали Гегеля там со Шпегелем, проваливались в коптильню… – такой уж магнит природный. Сам одного видал, высокого уважения мудрец-философ… всегда у меня тонкого полотна рубашки требовал. Для людей с капиталом, полагаете? Ну, розовый сиг, – другое дело, а копчушек щепную коробчонку и бедняк покупал на Масленой.
В рождественском посту любил я зайти в харчевню. Все предрождественское время – именины за именинами: Александр Невский, Катерина-Мученица, Варвара-Великомученица, Никола-Угодник, Спиридон-Поворот… да похороны еще ввернутся, – так, в пирогах-блинах, раковых супах-ушицах, в кальях-солянках, заливных да киселях-пломбирах… чистое утопание. Ну, и потянет на капусту. Так вот, в харчевнях, простой народ, и рабочий, и нищий-золоторотец, – истинное утешение смотреть. Совершенно особый дух, варено-теплый, сытно-густой и вязкий: щи стоялые с осетровой головизной, похлебка со снетками, – три монетки большая миска да хлеба еще ломтище, да на монетку ломоть киселя горохового, крутого… и вдруг, чистое удивление! Такой-то осетрины звенцо отвалят, с оранжевой прослойкой, чуть не за пятиалтынный, а сыт и на целый день, икай до утра. И всегда в эту пору появится первинка – народная пастила, яблошная и клюковная, в скошенных таких ящичках-корытцах, 5–7 копеек фунт. В детстве первое удовольствие, нет вкусней: сладенькая и острая, крепкая пастила, родная, с лесных-полевых раздолий.
Движется к Рождеству, ярче сиянье Праздника.
Игрушечные ряды полнеют, звенят, сверкают, крепко воняет скипидаром: подошел елочный товар. Первое – святочные маски, румяные, пусто-глазые, щекастые, подымают в вас радостное детство, пугают рыжими бакенбардами, «с покойника». Спешишь по делу, а остановишься и стоишь, стоишь и не оторвешься: веселые, пузатые, золотисто-серебристые хлопушки, таинственные своим «сюрпризом»; малиновые, серебряные, зеркально-сверкающие шарики из стекла и воска, звезды – хвостатые кометы, струящиеся «солнца», рождественские херувимы, золоченые мишки и орешки, церквушки-крошки, с пунцовыми святыми огоньками из-за слюды в оконце, трепетный «дождь» рождественский, звездная пыль небесная – елочный брильянтин, радостные морковки, зелень, зеркальные дуделки, трубы с такими завитками, неописуемо-тонкий картонаж, с грошиками из шоколада, в осып сладкой крупки, с цветным драже, всякое подражание природ… – до изумления. Помните «детские закусочки»? И рыбки на блюдечках точеных, чуть пятака побольше, и ветчина, и язычная колбаса, и сыр с ноздрями, и икорка, и арбуэик, и огурчики-зелены, и румяная стопочка блинков в сметанке, и хвостик семужий, и грудка икры зернистой, сочной, в лачку пахучем… – все точной лепки, до искушения, весело пахнет красочкой… – ласковым детством пахнет. Смотришь – и что-то такое постигаешь, о-чень глубокое! – всякие мысли, высокого калибра. Я хоть и по торговой части, а любомудрию подвержен, с образовательной стороны: Императорское цом-мерческое кончил! Да и почитывал, даже за прилавком, про всякие комбинации ума, слабость моя такая, про философию. И вот, смотришь все это самое, елочное-веселое, и… будто это живая сущность! души земной неодушевленности! как бы – и-де-и вещей. И чудится, – тут-то и есть смысл елки, ее заманность, детская радость от нее, ро-ждес-ствен-ская радость… как бы рожденье живых вещей! Радует почему, и старых, и младенцев?.. Вот оно, чудо Рождества-то! Всегда мелькало… чуть намекающая тайна, вот-вот раскрылась!.. Вот бы философы занялись, составили назидающую книгу – «Чего говорит рождественская елка?» – и почему радоваться надо и уповать. Пишу кое-что, и хоть бобыль-бобылем, а елочку украшаю, свечечки возжигаю и всякое электричество гашу. Сижу и думаю… в созерцании ума и духа.
Ознакомительная версия.