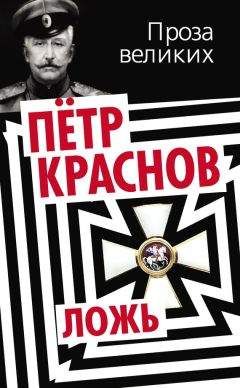Пижурин выпил вино, тяжело вздохнул и надушенным платком стер со лба проступивший пот:
– Легенда, – сказал он, – а вот вижу все, как это было, вижу своими незрячими глазами, как кошмарный сон, преследует она меня и ночью во сне, и наяву днем. Какая страшная, невыразимая словами тишина настала после убийства Адонирама… Поздняя, ущербная луна показалась холмами Иерусалима и выплыла на черное небо. Сильнее стал запах роз и лилий, слышнее рокот вод, несущихся с гор потоков. В толпе товарищей тишина. Молча копают землю, хоронят Адонирама. Никто не должен знать, что случилось… Присыпали и притоптали землю… Разошлись… Гармония ушла с земли. Настало утро. Закопошились рабочие на постройке. Под опахалами из страусовых перьев, в пурпуровой мантии, несомый рослыми черными рабами, подарком Царицы Юга, явился на постройку Соломон. «Где Адонирам?». – Никто не отвечает. Молчание кругом. Усердно меряют «локти», отсчитывают кирпичи, стучат лопатки с известкой. «Где Адонирам?». Никто не знает… И так проходят дни… Адонирама нет. Утеряно магическое слово, источник гармонии. Работа не клеится, некому направить ее. Соломон прозревает истину. Он идет искать Адонирама. В руках у Царя сухая ветка мимозы… За Соломоном идут товарищи. Тихо кругом. Условились, что первое слово, которое кем-нибудь будет произнесено, когда найдут Адонирама, заменит магическое слово «иегова». Знойный день. Солнце нестерпимо печет. Раскалена красная почва. Соломон останавливается у восточных ворот. Здесь земля почему-то рыхлая, не слежавшаяся. Соломон втыкает шершавую, серую ветку мимозы. Все с ужасом видят, как серые комочки листьев шевелятся, распускаются, и ветка мимозы оживает и зеленеет. Молча, знаком, показывает Соломон, чтобы тут копали. С тихим шорохом сыпется земля. В знойный воздух ползет из нее отвратительный, одуряющий запах трупа. Из-под земли показывается белый плащ и мертвая рука. Один из мастеров схватывает за руку, чтобы вытащить из земли Адонирама… Мясо сползает с костей. В ужасе, кричит кто-то:
– Мак-бенах!..
– Тело сходит с кости!..
– Мак-бенах, – медлительно и тихо повторил Пижурин. – Вы понимаете, в этом весь ужас смерти. Разложение тела. Моего тела, которое мне дороже всего, уничтожение моего огромного «я»…
– Но вы не будете же это чувствовать.
– Вы знаете это?.. Почему вы знаете?.. Теперь сжигают. Что хуже, не знаю. Поймите, меня: все умерло, стало нечувствительным, а мозг еще не умер. Он только на время уснул, и вот, проснулся. Он слышит, как над головою стучат по гробовой доске комья земли, все глуше и глуше, и наступает тишина. Страшная, последняя, гробовая тишина. Тишина могилы. И вот, мозг начинает передавать ощущение гниения вашего тела. Сползают с пальцев ногти, мясо мокнет, вязнет, распадается, кости расходятся. А мозг живет, чувствует, думает, ждет!.. Или… Это ожидание в гробу. Кончились речи приятелей, медленно и плавно опустился гроб в провал. Вы в гробу, вы ждете очереди. И вот, загрохотала под вами металлическая тележка, и повезла гроб с телом в печь. Теперь не сжигают огнем. Теперь вы попадаете в пространство, где такая страшная температура, что все испаряется…
– Ну, тогда испарится и ваш мозг…
– Да, и мозг. Но этот момент… Ужасно… Да, что-то есть в смерти непостижимо страшное, непереносимое… Одна богатая американка, – я понимаю ее, хотя ее и считали полоумной, – завещала громадные деньги, чтобы ее не хоронили в могиле и не сжигали, но устроили прекрасный склеп, как жилую комнату, с водой и освещением, богато обставленный, для жилья одного человека, и там положили ее в хрустальном гробу. Американка оставила особую сумму денег, чтобы нанять человека, который должен был жить в этом склепе, вместе с нею. Ему должны были приносить пищу и все необходимое, но он должен был оставаться один с нею, или, вернее, с ее трупом. И… такого человека не нашли…
– Обратились бы к русским безработным, наверно, нашелся бы такой отчаянный человек, – сказал Акантов.
– Да, были… Но, представьте себе, больше одной ночи не выдерживали.
– Но это, значит, противоречит тому, что вы сказали. Значить, есть что-то за гробом.
– Напротив, именно ничего нет, и страшна была эта неподвижно лежащая в гробу покойница, в которой тихо совершался процесс разрушения.
– Это напоминает мне повесть «Вий», которую я в детстве, когда еще читал такие вещи, прочитал…
– Да… Но там все-таки было менее страшно. Там была нечистая сила, там был «Вий», а тут… Мак-бенах!..
Только теперь Пижурин заметил, что темнота и ночь надвигается. Он забеспокоился:
– Что это? – в тревоге сказал он. – Ночь?.. Темнеет!.. Позовите моего шофера.
Но, едва Акантов встал, Пижурин испуганно закричал:
– Нет!.. Нет!.. Я боюсь быть один в темной комнате. Я же почти ничего не вижу. Это, как в гробу… Проводите меня вниз и зажгите огонь. Помогите мне встать…
Акантов вывел Пижурина из квартиры. Рослый шофер усадил хозяина в машину.
Странное дело: не убеждения всегда красноречивого Галганова, не мягкая, деликатная, философская речь Маневича, но именно холодный, бездушный материализм Пижурина, сломили Акантова. Все три приходили к Акантову почти ежедневно, то поодиночке, то вдвоем, то все три вместе. У Акантова постепенно сложилось убеждение, что, и правда, с большевиками нужно бороться их же оружием, оружием силы и расчетливой работы. Материализму коммунизма противопоставить материализм масонства. И, может быть, «мерзавцы», как сам себя аттестовал Пижурин, именно и будут полезны в такой борьбе. Воля Акантова была сломлена.
Мак-бенах!..
Плоть разрушается, а что касается души, то ее просто нет. Довольно иллюзий, мистицизма, слепой веры в Божие милосердие, молитв и земных поклонов; нужно просто стать на борьбу, приняться за холодную и расчетливую работу разрушения коммунизма. И работать, отбросив брезгливость, с масонами.
Спустя две недели после первого разговора с Пижуриным, Акантов, наставляемый Галгановым, Маневичем и Пижуриным, и за их поручительством, вошел в ближайшую масонскую ложу…
Знойное, душное и сырое, тропическое лето в Нью-Йорке сменила прекрасная осень. Океан заголубел, сизой дымкой покрылись широкие, мощные реки, по утрам золотыми казались башни небоскребов, Центральный парк Манхэттана убрался в пестрые краски осени. Стало легче дышать в городских шумных улицах. А потом стали налетать ледяные вихри, закрутили в воздухе сухие листья, понесли их резвыми бабочками по глубокому ущелью Пятого Авеню, засыпали тротуары… Почернел и оголился парк. Только вечнозеленые лавры и мирты, можжевельники и кипарисы, да стройные голубые ели, красивыми пятнами легли на сером кружеве кустов и деревьев.
Лиза встала утром, заглянула в окно. Все было бело. Крупные снежинки крутились в сиреневом небе, а в глубине улицы лежал мягкий покров белого снежного полога. За ночь стала зима. Бесшумно по снегу катили автомобили, оставляя за собою темный, вонючий след гари…
Наталья Петровна и Татуша пошли своей дорожкой. Против жизни не попрешь. Они мало работали в мастерской, и часто не ночевали дома. Наталья Петровна не в шутку собиралась выходить замуж за богатого мулата, владельца плантаций. Это было по-американски. Татуша, подсмеиваясь над матерью, говорила ей стихами Вертинского:
Иль, может быть, в притонах Сан-Франциско
Лиловый негр вам подает манто?..
– Мамуленька, милая, ничего, ведь, не попишешь! Так складывается наша судьба… Что-ж, надо принять жизнь такою, какою она дается. Такой век, и такова наша участь…
Татуша меняла любовников чуть не каждый месяц, и говорила, смеясь:
– Как перчатки!.. Джеймс – американский хам… Что может быть хуже! Я его не переношу. Я выгнала его в два счета. Сволочь, а не мужчина. У меня теперь, Лиза, прелестный полуеврей… Херувимчик. Иосиф Прекрасный… И глаза!.. Такие глаза бывают только на картинах… И богат!.. Свой автомобиль, своя дача; малютку приятно пощипать…
Целыми неделями Татуша не жила дома, разъезжая по Америке со своим любовником.
В такие одинокие ночи Лиза тщательно запиралась и пустыми кроватями заставляла двери. Она боялась спать одной. Она знала: она обречена на то же. И долго лежала она, не смыкая глаз, прислушиваясь к песне города, к гулу подземных машин, к шуму лифтов, к шагам в коридоре. Она думала о Февралевых. Как легко мать и дочь приняли жизнь такою, какою она сложилась. Мать пережила Великую и гражданскую войны; казалось бы, закалилась в борьбе, перенесла потерю мужа, и тут так скоро позабыла о всем. Татуша не знала настоящей любви, такой, какая горела в Лизе, и, может быть, потому так просто приняла совершившееся…
– Гадость, – говорила Татуша в те ночи, когда она бывала дома, присаживаясь на постель Лизы, – конечно, Лиза, гадость, но, ведь, это Америка!.. Тут так надо. Тут деньги все. Царство доллара. Но, посмотри, какие у меня платья, какие кольца и украшения!.. Вчера в театре фильмовый актер загляделся на меня, и я слышала, как он сказал: «Какая славная девочка… С таким телом можно обнаженной играть»… Лиза представляешь: я… на экране!.. обнаженная!.. Ты представляешь только это! Портниха Февралева, – какая мерзость!.. Татьяна Февралева – знаменитая стар; чувствуешь, Лиза, музыку слов!.. Да еще, если бы у меня был такой голос, как у тебя… Весь мир любовался бы моим телом и слушал затаив дыхание, мое пение… Нет, Лиза… Не зря попали мы в Америку. Мы завоюем себе положение… Мужчины… Все они такие… Им ничего другого и не надо. Я, Лиза, научилась от жизни… Я жестокая, нахальная, грубая… Им это и надо. Я умею мужчину на колени поставить… Ты думаешь любовь?.. Как же!.. Держи карман шире!.. Какая там у них любовь… Распустят сопли и млеют… Лизочка, душка, ты еще невинненькая, ты этого не понимаешь… Я развратная… Я русская, с Волги… Я знаю, как с ними нужно быть… У меня, гляди-и!..