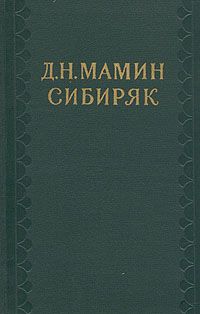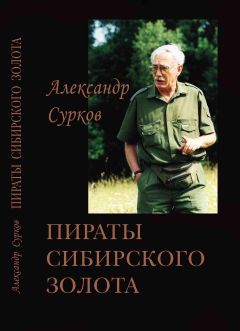– Захаживал я не одинова на Богоданку-то, Петр Васильич… Заделье прикину, да и заверну. Ну, конечно, к Марье – тоже не чужая, значит, мне будет, тетка Оксе-то.
– Вся сила в Марье…
– Дура она, вот что надо сказать! Имела и силу над Кишкиным, да толку не хватило… Известно, баба-дура. Старичонка-то подсыпался к ней и так и этак, а она тут себя и оказала дурой вполне. Ну много ли старику нужно? Одно любопытство осталось, а вреда никакого… Так нет, Марья сейчас на дыбы: да у меня муж, да я в законе, а не какая-нибудь приисковая гулеванка.
– Да уж речистая баба: точно стреляет словами-то. Только и ты, Матюшка, дурак, ежели разобрать: Марья свое толмит, а ты ей свое. Этакому мужику да не обломать бабенки?.. Семеныч-то у машины ходит, а ты ходил бы около Марьи… Поломается для порядку, а потом вся чужая и сделается: известная бабья вера.
– Было и это… – сумрачно ответил Матюшка, а потом рассмеялся. – Моя-то Оксюха ведь учуяла, что я около Марьи обихаживаю, и тоже на дыбы. Да ведь какую прыть оказала: чуть-чуть не зашибла меня. Вот как расстервенилась, окаянная!.. Ну, я ее поучил малым делом, а она ночью-то на Богоданку как стрелит, да прямо к Семенычу… Тот на дыбы, Марью сейчас избил, а меня пообещал застрелить, как только я нос покажу на Богоданку.
– Ну, теперь твоя вся Марья, – решил Петр Васильич. – Тоже умеючи надо и баб учить. Марья-то со злости что хошь сделает.
– И то сделает… Подсылала уж ко мне, – тихо проговорил Матюшка, оглядываясь. – А только мне она, Марья-то, совсем не надобна, окромя того, чтобы вызнать, где ключи прячет Шишка… Каждый день, слышь, на новом месте. Потом Марья же сказывала мне, что он теперь зачастил больше к баушке Лукерье и Наташку сватает.
– Так, дурит… Комариное-то сало, разыгралось.
– Марья и говорит, что иначе нельзя, как через Наташку…
После короткой паузы Матюшка опять засмеялся и прибавил:
– Окся ужо до тебя доберется, Петр Васильич… Она и то обещает рассчитаться с тобой мелкими. «Это, грит, он, кривой черт, настроил тебя». То-то дура… Я и боялся к тебе подойти все время: пожалуй, как раз вцепится… Ей бы только в башку попало. Тебя да Марью хочет руками задавить.
Дальше разговор пошел уже совсем шепотом. Матюшка сидел, опустив в раздумьи свою кудрявую голову, а Петр Васильич говорил:
– Чего ждать-то?.. Все одно пропадать… а старичонке много ли надо: двинул одинова, и не дыхнет…
Голова Матюшки сделала отрицательное движение, а его могучее громадное тело отодвинулось от змея-искусителя. Землянка почти зашевелилась. «Ну нет, брат, я на это не согласен», – без слов ответила голова Матюшки новым, еще более энергичным движением. Петр Васильич тяжело дышал. Он сейчас ненавидел этого дурака Матюшку всей душой. Так бы и ударил его по пустой башке чем попадя…
– Эй, кто жив человек в землянке? – послышался веселый голос.
Петр Васильич вздрогнул, узнав по голосу Мыльникова. Матюшка отскочил от него и сделал вид, что поправляет каменку. А Мыльников был не один: с ним рядом стоял Ганька.
– Здесь… – шептал Ганька, показывая головой на землянку. – Третий день пластом лежит.
Ганька только что узнал от Мыльникова пикантную новость и сгорал от нетерпения видеть своими глазами драного Петра Васильича. Это было жадное лакейское любопытство. Мыльников тоже был счастлив, что первым принес на Сиротку любопытную весточку.
– Кого там черт принес? – отозвался Матюшка с деланной грубостью.
– Так богоданных родителев принимают? – обиделся Мыльников, просовывая свою голову в дверь. – В гости пришел, зятек…
– Милости просим… Проходите почаще мимо-то, тестюшка…
Мыльников уставился на Петра Васильича, который лежал неподвижно на нарах.
– Чего ощерился, как свинья на мерзлую кочку? – предупредил его Петр Васильич с глухой злобой. – Я самый и есть… Ты ведь за тридцать верст прибежал, чтобы рассказать, как меня в волости драли. Ну, драли! Вот и гляди: я самый… Ты ведь за этим пришел?
Петр Васильич дико захохотал, а голова Мыльникова мгновенно скрылась. Матюшка торопливо вышел из землянки и накинулся на незваного гостя.
– Что тебе здесь понадобилось, Тарас? Уходи добром, пока цел…
– Мне бы Оксю повидать… – бормотал виновато Мыльников. – Больно я по ней соскучился… Сказывают, брюхатая она.
– Не твое дело… Проваливай. А ты, Ганька, тоже с ним можешь идти, коли глянется.
К общему удивлению, показался Петр Васильич и проговорил:
– Матюшка, не тронь, в сам деле, Тараса… Его причины тут нет. Так он, по своему малодушеству…
– Да я тебя-то жалеючи, Петр Васильич! – заговорил Мыльников, набираясь храбрости. – Какое такое полное право волостные старики имеют, напримерно, драть тебя?.. Да я их вот как распатроню… Прямо губернатору бумагу подать, а то в правительственный синод. Найдем дорогу, не беспокойся…
Эта болтовня не встретила никакого ответа. Матюшка упорно отворачивался от дорогого тестюшки, Ганька шмыгал глазами, подыскивая предлог, чтобы удрать, а Петр Васильич вызывающе смотрел на Мыльникова своим единственным оком, точно хотел его съесть.
– Что же, я и уйду, – решил вдруг Мыльников. – Нахлебался у зятя щей через забор шляпой… эх роденька!..
Он прошел на прииск и разыскал Оксю, которая действительно находилась в интересном положении. Она, видимо, обрадовалась отцу, чем и удивила и тронула его. Грядущее материнство сгладило прежнюю мужиковатость Окси, хотя красивей она не сделалась. Усадив отца на пустые вымостки, Окся расспрашивала про мать, про родных, а потом спокойно проговорила:
– Помру скоро, тятя…
– Перестань молоть!.. Это для первого разу страшно, а бабы живущи…
– Нет, помру… Кланяйся мамыньке. Так и скажи ей…
Петр Васильич и Матюшка ушли с Сиротки вместе и так шли до самой Богоданки. В виду самого прииска Петр Васильич остановился и тяжело вздохнул.
– Вот как поворачивает Кишкин, братец ты мой!.. Красота… Помирать не надо. А прежнего места и званья не осталось…
Промысловые волки долго любовались работавшим богатым прииском, как настоящие артисты. Эти громадные отвалы и свалка верховика и перемывок, правильные квадраты глубоких выемок, где добывался золотоносный песок, бутара, приводимая в движение паровой машиной, новенькая контора на взгорье, а там, в глубине, дымки старательских огней, кучи свежего хвороста и движущиеся тачки рабочих – все это было до того близкое, родное, кровное, что от немого восторга дух захватывало. Это настоящая работа, настоящее золото, недосягаемая мечта, высший идеал, до которого только в состоянии подняться промысловое воображение. Дух захватывает, глядя на такую работу, не то, что на Сиротке, где копнуто там, копнуто в другом месте, копнуто в третьем, а настоящего ничего.
Петр Васильич остался, а Матюшка пошел к конторе. Он шел медленно, развалистым мужицким шагом, приглядывая новые работы. Семеныч теперь у своей машины руководствует, а Марья управляется в конторе бабьим делом одна. Самое подходящее время, если бы еще старый черт не вернулся. Под новеньким навесом у самой конторы стоял новенький тарантас, в котором ездил Кишкин в город сдавать золото, рядом новенькие конюшни, новенький амбар – все с иголочки, все как только что облупленное яичко.
А Марья уже завидела гостя, и ее улыбающееся лицо мелькает в окне.
– Наше вам, Марья Родивоновна… Легко ли прыгаете?..
– Не до прыганья, Матюшка; извелась вконец.
– Какая такая причина случилась?
– По одном подлом человеке сохну… Я-то сохну, а ему, кудрявому, и горюшка мало.
– Тоже навяжется лихо…
Марья болтает, а сама смеется и глазами в Матюшку так упирается, что ему даже жутко делается. Впрочем, он встряхивает своими кудрями и подсаживается на завалинку, чтобы выкурить цигарку, а потом уж идет в Марьину горенку; Марья вдруг стихает, мешается и смотрит на Матюшку какими-то радостно-испуганными глазами. Какой он большой в этой горенке, – Семеныч перед ним цыпленок.
– Ну так как же, Марья Родивоновна?
– Да все то же, Матюшка… Давно не видались, а пришел – и сказать нечего. Я уж за упокой собиралась тебя поминать… Жена у тебя, сказывают, на тех порах, так об ней заботишься?..
– Экий у тебя язык, Марья…
Марья наклонилась, чтобы достать какое-то угощенье из-за лавки, как две сильных волосатых руки схватили ее и подняли, как перышко. Она только жалобно пискнула и замерла.
– Черт, отстань…
– Выходи ужо в лес… Выйдешь?..
– Да ты ошалел никак? Ступай к своей-то Оксе и спроси ее, куда мне приходить… Отпусти, медведь!
Марья плохо помнила, как ушел Матюшка. У нее сладко кружилась голова, дрожали ноги, опускались руки… Хотела плакать и смеяться, а тут еще свой бабий страх. Вот сейчас она честная мужняя жена, а выйдет в лес – и пропала… Вспомнив про объятия Матюшки, она сердито отплюнулась. Вот охальник! Потом Марья вдруг расплакалась. Присела к окну, облокотилась и залилась рекой. Семеныч, завернувший вечерком напиться чаю, нашел жену с заплаканным лицом.