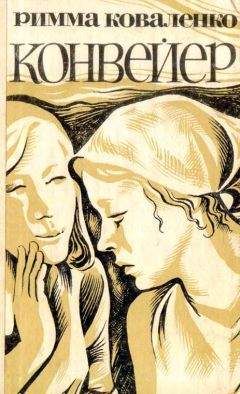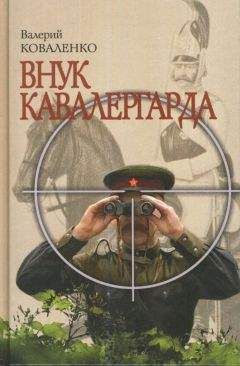догадалась: «Это об отце». «Люди, Наденька, живут по двум заповедям: сам для себя или для других. Третьего нет. Но среди тех, кто живет для себя, не все одинаковы, не все законченные эгоисты. Среди них есть и такие, кто мучается, кто чувствует свою вину перед людьми».
…Целый день Надя вертелась у зеркала. Примеряла Анины шляпки, туфли.
Потом пришел Юра. Они ели холодные котлеты на кухне, и Надя покровительственным голосом допрашивала:
— Юра, вы сразу решили стать композитором?
— Нет. Я сначала поступил в архитектурный институт. Математику знал, с черчением было похуже. В первом же семестре профессор Войтицкий сказал: «Таким шрифтом нужно подписывать не чертеж, а багаж и отправлять малой скоростью».
Это надо уметь — смешные вещи говорить таким унылым голосом.
Надя услышала шаги отца и побежала к двери.
— Открыто!
Олег Федорович бросил портфель на тумбочку в прихожей, проходя по коридору, увидел на кухне Юру.
— Что он там делает?
Надя посмотрела на отца осуждающе.
— Это же Юра.
— Возможно.
Она не стала с ним спорить. Чепуха какая-то. «Возможно»! Возможно, Юра, а возможно, и не Юра. Специально такое брякнет, чтобы позлить.
Назавтра с утра шел дождь. Надя расплела косы, открыла окно и легла животом на подоконник. Косы у нее были недлинные, концы закручивались колечком, а если их вот так распустить и подставить дождю, то уже проверено, будут кудри. С дождем просто повезло. Когда волосы высохли, позвонил Юра, помолчал, а потом своим скучным голосом произнес:
— Надя, я вас приглашаю в кафе.
— Куда? — переспросила она.
— В кафе «Спутник». Туда надо ехать на втором троллейбусе.
В кафе над каждым столом на длинных шнурах висели люстры-рожки. От них на скатерти плавали зеленоватые пятна. Юра сказал, что должен подойти его приятель Борис. Он художник, они вместе учились в школе.
Художник Борис оказался мальчишкой в бумажном растянутом свитере, с пухлыми губами и ямочкой на подбородке. Он сразу стал говорить Наде «ты».
— Ого! — сказал он. — В твоей прическе что-то есть.
Надя убрала со лба прядь и покраснела.
Официантка принесла бутылку вина и салаты. Надя прикрыла ладонью рюмку.
— Мне не надо.
— Ну-у, — разочарованно протянул Борис, — одну-единственную, за знакомство.
— Нет.
На маленькой эстраде играл оркестр. Юра пригласил Надю. Поборов страх, она пошла впереди него к пятачку, на котором уже танцевали две пары.
Кафе закрывалось в одиннадцать. На улице Борис сказал:
— Люди! Пошли ко мне! Моя родня на даче, а у меня есть что вам показать.
Шли пешком. По дороге Борис смешил их разными историями, но как только подошли к его дому, затих и сказал шепотом:
— Ни звука.
Лифт работал, но они пешком поднялись на седьмой этаж. Борис открыл дверь квартиры и вздрогнул. Телефон в прихожей залился злорадным, уличающим визгом.
— Да! — беззаботно крикнул в трубку Борис. — Это я. Ну что вы, Анна Филипповна. Полный порядок.
— Соседка из квартиры напротив, — объяснил он гостям. — Несет службу надзора. От имени и по поручению предков.
Картины Бориса не понравились Наде. Всего две краски — синяя и голубая. Голубые люди, синие дома. А в квартире понравилось: комнаты просторные, с высокими потолками, с коврами и удобными, несовременными креслами. И в таком богатом доме такой смешной мальчик — в бумажном растянутом свитере, со своими синими картинами.
Они пили кофе и играли во мнения. Надя долго думала, что сказать о Юре. Потом придумала:
— Ты скучно-торжественный.
Домой они с Юрой шли молча. Фонари уже не горели, редкие машины бешеной скоростью, как пулей, пробивали ночную тишину. Юра попытался взять ее под руку. Она отстранилась. От каблуков болели ноги, голова валилась с плеч от усталости. Еще одно напряжение — первый раз идти под руку — было не по силам.
Она увидела отца не сразу, он стоял у стены под лампочкой, освещавшей номер дома. Был он в пальто и в зимней шапке.
— Добрый вечер, — сказал Юра.
— Вечер уже был. Сейчас ночь. — Олег Федорович повернулся, вошел в подъезд, ничего не сказав Наде.
— Тебе влетит, — сказал Юра, — это я виноват.
Входная дверь была открыта. Надя вошла, повернула ключ и услыхала голос отца.
— Да, да, нашлась. Извините меня, товарищ дежурный. — Молчание, и по другому номеру: — Леонид! Прости, старик, все в порядке. Да, да, пришла. Всыплю обязательно. Спокойной ночи.
Надя постучалась.
— Иди спать, — глухо сказал отец, — поговорим завтра.
Утром разговор не состоялся. Когда Надя проснулась, отца уже не было. Надю не долго грызло раскаяние. Ничего особенного не случилось. Ну, пришла поздно. Все родители такие: из пустяков раздувают трагедию. Она ему скажет: «Не знаю, почему ты разволновался. Ничего со мной не случилось». Им всем кажется, что случилось. И Надя знает что. Злости не хватает, как им только не стыдно воображать всякую гадость.
Отец позвонил в полдень:
— Завтра поедешь домой. Я купил билет.
— Мне?
— Да.
Случилось что-то непонятное. Надя легла на тахту и уставилась в одну точку. Звонил телефон, а она не поднималась. Пусть звонит. Была тайная надежда, что это звонит отец. Передумал или просто никакого билета не покупал.
Звонил Юра.
— Как дела, Надя?
— Плохие дела. Отец купил билет. Я завтра уезжаю.
— Ерунда какая… За что же он выпроваживает тебя?
Ей стало легче. Она все поняла, вечером она сказала отцу:
— Я знаю, почему ты выпроваживаешь меня. Ты испугался.
Он отложил газету, снял очки, спросил:
— Это ты меня напугала?
— Нет. Ты сам… Боишься быть виноватым.
Через час, когда стакан из коробки уже побывал в его руках, он пришел к ней в комнату, сел на кровать.
— Собралась? — Он показал на стоявший посреди комнаты чемодан. — Отец-лиходей выгоняет дочь из дома. Позорный отец. Не повезло тебе с отцом.
Вот он, тот момент: сейчас она ему скажет.
— Я знаю, почему ты пьешь, — она взглянула на него решительно и сердито.
Он не ожидал, растерялся. Потом наклонился и снизу тоже посмотрел на нее недобро.
— Все мы что-то знаем…
— Знаю, почему ты пьешь.
Он покачнулся, поглядел на Надю серыми, тоскующими глазами и закрыл их ладонью.
— Старость грешна, молодость жестока…
— Ты не старый. Ты никакой. Живешь сам с собой. А чтобы другие тебе не мешали, ты с ними добрый. Все говорят, что ты добрый. И всем с тобой плохо, трудно. И пьешь ты потому, что это тебе, тебе, тебе от водки хорошо. А как другим — это тебе неважно. Я уеду, но ты знай, что я все понимаю. Это ты не мне купил билет, а себе, чтобы тебе было спокойно.
Он остался