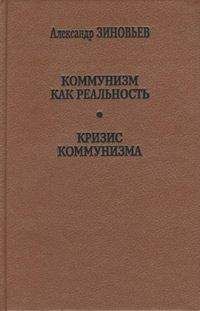звук двигателя, ветра за бортом. Матвей крикнул Васе:
– Как ты там, Василий?
Василий, не отвечая (он лежал ближе к пилотскому сидению), поднял большой палец вверх. Полтора часа и вправду прошли незаметно! Матвей немного помечтал о том, как появится в Москве, придёт в школу. Как вокруг него, загорелого и возмужавшего, соберётся класс, и заснул. Проснулся от тряски, когда сели, дождался остановки двигателя. Слегка оглох от всего этого, но весело крикнул:
– Вася, вы выходите?
Но мы-то возвратились, и это – не пустяк,
И будем петь, пока ещё не вечер
В болотных сапогах с закатанными верхней частью на колени ботфортами. В энцефалитке, прожжённой до белизны солнцем и кострами, пропитанных потом, но тщательно выстиранных энцефалитках. С тайным для окружающих ощущением вернувшегося в порт флибустьера, или, на худой конец, опять же прожжённых путешественников, или геологов-полевиков Матвей открыл дверь в чайную, как открывают двери в цивилизацию, где есть ситро и пиво, вино и весы, счёты и буфетчица. А в руках напрочь забытое шуршание бумажных денег и брезжащая на безмятежном горизонте счастливая жизнь с лифтами и троллейбусами. Удивительное дело, но Матвей по дороге к прилавку сначала сбил алюминиевый стул, покраснел и извинился перед вскинутой головой в белом чепчике – продавщицей. И только извинился, совершенно не понимая, как это происходит, тут же опрокинул стол. И только Матвей подхватил не успевший упасть стол и поставил его на четыре ноги, как снова свалил стул. «Да что за напасть, – подумал про себя Матвей, – мебель под ноги бросается!» И, пока поднимал и устанавливал на четыре ноги очередной стул, услыхал женский, с ехидцей голос продавщицы:
– А, геологи! Натопались в тайге на свободе, заширели, раскачивает как на море.
Матвей стоял перед продавщицей и стеснялся.
– Привыкайте, ребятушки. Тут у нас тесновато.
Из всего обилия на полках за прилавком выбрал конфитюр (он Матвею даже снился!) и по бутылке ситро. Продавщица внимательнее всмотрелась в лица покупателей и признала в одном из них, обветренном, совсем не мужика, а, ну, не ребёнка, но явно школьника, быстро сообразила, что план по продаже алкогольной продукции на них не сорвёшь, и охотно заговорила:
– Откуда будете? – уже совсем материнским голосом поинтересовалась продавщица.
– Из тайг-ги, мать, не в-видно, что ли! Вон Мат-твея всего шат-тает, – стараясь свернуть (обернуть) падение стульев в шутку, ответил Василий.
– Вижу, что не из ДК, а откуда?
Матвей сообразил первым и пришёл на помощь Василию:
– С реки Ингили прилетели, слышали такую?
– А к нам-то откуда прилетели? – допытывалась непонятливая продавщица.
И тогда Матвей понял, о чём она спрашивает, и протянул давно забытое слово:
– Москва!
Из этой чайной с просторным крыльцом из исхоженных досок, с дверью, тоже выгоревшей на солнце слегка голубой краской, наискось прибитой деревянной ручкой, с этими дюралевыми стульями со столами, с окнами с мелкими стёклышками, как на подмосковных дачах на террасах, плаховыми досками под ногами и улыбкой доброй продавщицы; казалось, что и нет этой самой Москвы, что это мираж из букв, а вот тайга с оборзевшим гнусом и оводом – это настоящее, неподдельное, без автобусов и милиционеров, но с вечным шумом раскачивающихся верхушек деревьев в бесконечной тайге! С речными шумными перекатами, с зарослями малины и нежной морошки, с рыбой и вечерним чаем у костра из закопчённой кружки с сахарком – это было настоящим. Потом, спустя годы и годы, Матвей, вспоминая то первое своё поле, всякий раз возвращался от частностей работы, и снова работы, к этому чаю, крепко заваренному, к самой кружке, которую, чем ближе к зиме, было всё приятнее держать в ладонях, согревая их, к его скромному запаху грузинского чая, чёрной его смолистости и вкусу. И в конце концов завёл дома себе точно такую же кружку, которые попадались ему и в балках Чукотки, и на увалах предгорий Кавказа, и на буровых Ямала. Как память о спасительном горячем чае с сахаром или без, с её горячими боками и дымком над коричневой поверхностью. Пожившие и поскитавшиеся геологи поймут Матвея безо всякого дополнительного объяснения. Кружке мы обязаны и теплом, и… всем.
Прошло много лет. Половина века и больше. Вот и у меня уже какое утро, часто в четыре утра, реже в три, рядом со мной дымится кружка с уже заваренным зелёным чаем. Грузинского, номер два, уже не найти. Всегда рядом со мной на полке стоит белая, со следами губ и пальцев (специально не отмываю), эмалированная старая кружка! Я писал ночами эту повесть, отдавая свой персональный долг всем, кто до меня работал в геологии в СССР, кто писал для меня и таких, как я, книги, влюблял меня в профессию.
А в тот день конфитюр оказался неожиданно приторным, но пошёл на ура, ситро – шипучим, и мы, разливая его по гранёным стаканам, переглянулись и, сведя стаканы в чоке, решили, что всё уже хорошо! И что сто лет не пившие ситро, мы ничего от этого не потеряли, но, увы, соскучились. И, поблагодарив продавщицу, вышли на крыльцо и, возможно, в последний раз в этом сезоне, свернули себе из газетной нарезки самокрутки с махрой и отчаянно задымили, прикуривая от одной на двоих спички. Так как уже заканчивался багряный сентябрь, наступал прозрачный октябрь, сознание грело незнакомое состояние школьника, пропускающего школу по причине невозможности в неё попасть, и снисходительное отношение к школьным товарищам, которые вот уже месяц по утрам тянутся в школу, в то время как Матвей и настоящий товарищ по партии, Василий, стоят на крыльце чайной в очень далёком от Москвы посёлке, да ещё и смолят самокрутки, что уж совсем не совмещалось с понятием «школьник».
23 мая 2018 года
«Разводящий» – половник (жарг.).