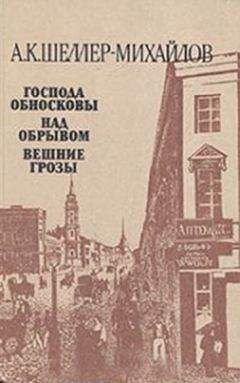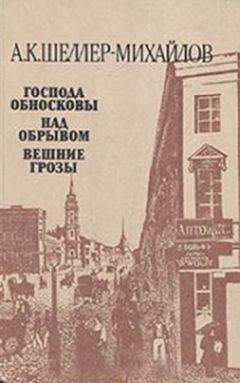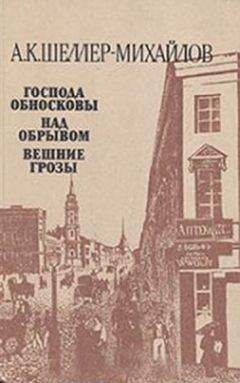Похороны совершались довольно торжественно, и нашлось много людей, придавших какое-то особенное значение покойнику. «Он был, как Россия, весь в будущем!», «Мы хороним наши лучшие надежды на будущее!», «Это был стойкий и глубоко убежденный человек, способный направить на путь новое поколение», — раздавалось со всех сторон и кто-то даже тиснул в этом роде статейку: бог знает, заставило ли выкинуть эту штуку искреннее убеждение или просто желание сказать, что и автор статейки был тоже знаком с порядочными людьми, или, может быть, побуждение было еще мельче и просто явилось следствием желания зашибить лишнюю копейку…
На могиле один из провожатых совершенно неожиданно решился произнести речь и принял приличный случаю вид.
— Господа, кого мы хороним? — торжественно спросил оратор и обвел собрание глубокомысленным, немного отупелым взглядом, как это обыкновенно делается при подобных вопросах во время надгробных речей. — Кого мы хороним? — еще торжественнее повторил он, выкатывая глаза и многозначительно качая головой.
— Сына моего, батюшка, сына моего… Обноскова… — зарыдала Марья Ивановна, услышав вопрос и совершенно не зная, что на подобные вопросы в речах обыкновенно отвечают сами же ораторы.
По лицам присутствующих промелькнули неприличные, плохо сдержанные улыбки, а оратор совсем растерялся, остолбенел и, потеряв нить своей речи, мог продолжать ее только через несколько минут. Но, к сожалению, ему надо было торопиться, так как Марья Ивановна окончательно решилась вступить с ним в разговор и поминутно отвечала на все похвалы оратора.
— Это точно, батюшка! Так, так! Ох, он, мой голубчик, если б он знал, как его люди-то хвалят! Вот уж видно, что вы добрый человек! Не имею чести только знать, как вас зовут…
Вследствие этих возгласов надгробная речь, против всякого ожидания, превратилась в какой-то странный диалог; оратор, посылая чуть не к черту Марью Ивановну, спешил, путался, а недоумевающая публика смотрела на это необычайное зрелище совсем не с похоронным настроением духа.
— Фу! — отер оратор со своего лица пот, окончив речь, и отошел от могилы. — Нет, каково эта баба-то ко мне привязалась! Совсем, разбойница, доехала! — восклицал он в кругу своих знакомых. — Это ведь черт знает, что за положение!
— Позвольте-с, засыпать надо! — проговорили могильщики и, поплевав на ладони, принялись за лопаты.
Комки мерзлой земли глухо застучали о крышку гроба.
— О-й, пустите меня к нему, к моему голубчику! Ох, отцы родные, не могу я без него жить! Тошнехонько мне!.. Леня, ангел мой, ненаглядный, разочек дай взглянуть на себя! — рвалась Марья Ивановна из поддерживавших ее рук.
Провожатые начинали понемногу расходиться. Раздосадованный оратор обдумывал теперь, что надо бы еще сказать на обеде, и решился иначе начать свою новую речь, надеясь на более удачный конец…
— Не пожалуете ли, сударь, на чаек?.. За копанье могил… умаялись… Здесь грунт-от, пусто бы ему было, чистая глина, да и замерзло все… Пока копаешь, так сам десять раз в яму носом ткнешься, — рассуждал один из могильщиков, пока распорядитель похорон шарил в своем кошельке, отыскивая мелочь.
— Батюшка, им заплачено… Ох, всем заплачено, всем! — вмешалась, рыдая, Марья Ивановна. — Мошенники здесь обобрать норовят… Жалости-то в них нет!.. Ох, я сирота горемычная!.. На кого ты меня оставил, кормилец ты мой!..
— Ишь ты, полтину на трех дал, — с укоризной рассуждал могильщик, когда и Марья Ивановна была уведена с могилы. — Ну, кулак народ! И ведь зкое время-то, ни к чему приступу нет…
— А вот погоди, хлеб-от, говорят, еще подорожает, — заметил другой могильщик, сердито прибивая лопатою землю на могиле Обноскова.
— Черти, черти проклятые! — ругался собеседник, не менее сердито оканчивая свою работу. — Довольно, и так не встанет! — отер он пот с лица и поднял лопату на плечо, как солдат ружье.
От кладбища уже мчались на похоронный обед кареты, и шли в них веселые, беззаботные разговоры о житейских делах, о сегодняшнем дне, о вечернем спектакле… Сегодня похороны, завтра свадьба; утром погребальное пение, вечером обнаженные плечи Деверий или балет чуть не голых фей; один умер, другой родился; Алексея Алексеевича Обноскова похоронили, а где-нибудь с нетерпением и радостью ждут рождения какого-нибудь его однофамильца; покойник стоял за чистую, отвлеченную от жизни науку и, к сожалению, не кончил своего поприща, даже не начал настоящей борьбы за свои идеи, но, может быть, новорожденный его однофамилец будет успешнее бороться за те же самые идеи; ведь не сегодня началась эта борьба, не завтра кончится; наука не скоро унизится до того, чтобы сойти в простую кухню или в грязный подвал мастерового, ну, да и жизнь-то обходится без науки, не много нужно знать, чтобы весело прожить… Зимой кутили в пользу несносных голодающих, летом поедем на воды за границу мотать последние деньги; на наш век всего хватит, а внуки пусть сами о себе думают; старые порядки, может быть, и худы, да не ломать же нам себя, а новые, может быть, и хороши, ну, так и пусть их вводят, когда нас не будет… Житейские речи, житейская мудрость! Плохо живется на свете с этой мудростью…
В Германии стояла уже давно чудесная весна. Однажды небольшой семейный кружок Кряжова и несколько коротких знакомых Панютина и Груни уселись в саду пить после обеда кофе. Между собеседниками шли те не слишком торопливые, отчасти задумчивые разговоры, к которым обыкновенно располагает послеобеденная пора. Толки шли о России, о газетных известиях, о голоде, о женском вопросе, о просьбе женщин позволить им слушать университетский курс естественных наук. Одни выражали свои молодые надежды, другие, более опытные, покачивали головами и повторяли свой вечный припев: «Ничего не выйдет!» Вопрос перешел к тому, отчего ничего не выйдет? Начались споры, и беседа оживилась. Не вмешивалась в разговоры в этот день только Груня. Она в последнее время с особенным нетерпением ждала вестей из Петербурга, так как оттуда должен был приехать старший сын Высоцкой, а может быть, и она сама. Споры еще продолжались, как вдруг Груня быстро поднялась с места, взяла на руки ребенка и быстро побежала с ним по аллее сада.
— Куда ты? — с удивлением спросил Павел.
— Она, она приехала! — крикнула Груня, продолжая бежать.
— Милая, дорогая! — раздавалось у калитки сада. — Сколько времени мы не видались.
— Давай ребенка! — послышался мелодический голос Стефании Высоцкой. — Боже мой, какой он у тебя бутуз! Ты чем его кормишь?
— Не смей смеяться над ним!
— Ну, а уж щипать я его непременно буду!
— Так я тебе и позволю!
— Да вы не поссорьтесь на радостях! — засмеялся Павел и нагнулся к руке Стефании.
— Бог мой, какой он цивилизованный стал за границею! — захохотала она, подставив ему свободную руку.
— Всё по-прежнему веселы, живы, — ласково промолвил Кряжов, здороваясь с приезжею.
— Что мне делается!
— А сын, другие дети где?
— Все, все со мною. Возятся в отеле.
— Ну, уж это не дело, изволь сюда переезжать, — произнесла Груня и побежала распоряжаться о перенесении вещей Высоцкой в их дом.
— Да ведь это такой гвалт здесь поднимется, что вы убежите из своего кабинета, — обратилась Стефания к Кряжову.
— Ну, я и без того изленился здесь, постоянно бегаю от работы. То внучонка понянчить хочется, то милейшая Вера Александровна без меня скучает, ее утешать надо, — смеялся старик.
— Ах, а где же она? Ведите меня к ней! Она все по-старому влюблена в вас?
— Да смейтесь, смейтесь! А мы такими друзьями стали, что жить друг без друга не можем, — шутил Кряжов, действительно привыкший, как к близкой родной, к наивной и немного сентиментальной старой деве.
Когда поутих первый шум и гам веселого свидания, Стефания осторожно завела речь об опасной болезни Обноскова.
— Говори прямо: он умер? — изменяясь в лице и пристально глядя на Высоцкую, спросила Груня.
— Да, — ответила Стефания.
Все разом замолчали. Кряжов, опустив голову, заходил по комнате и время от времени по старой привычке подергивал шейную косынку. Груня чертила что-то на песке и по ее щеке катилась едва заметная слеза.
— Что же, этого надо было ожидать, этим должно было все рано или поздно кончиться, — проговорила Стефания.
Груня не поднимала головы.
— Знаю, — прошептала она, украдкой отирая упавшую на руку слезу, — но мне тяжело, что я могу воротиться в Россию, только перешагнув через его могилу.
— Да ведь и всегда приходится шагать чрез чьи-нибудь могилы к новой жизни! — ответила Высоцкая серьезным тоном. — Мы-то это знаем по опыту.
— Да, ты говоришь о великих событиях, а тут мелкие семейные интересы…
— Ну, зато и могил немного, — ответила Высоцкая. — Это грустно, да ведь свет не переделаешь. Не перешагнешь ты через могилу врага, — он перешагнет через твою… Остается то утешение, что не мы виноваты в таком порядке дел.