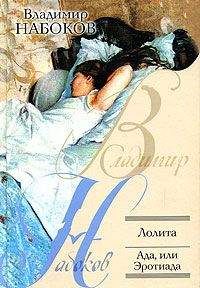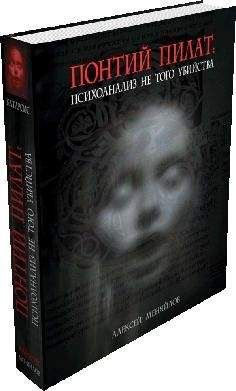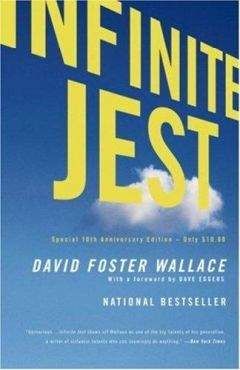Ван проводил его до машины.
– Ван, Ван, иди сюда, Грег хочет с тобой попрощаться, – крикнула Ада, но он не обернулся.
– Прикажете понимать это как вызов, me faites-vous un duel?[152] осведомился он.
Перси, уже усевшись за руль, улыбнулся, сощурился, склонился над приборной доской, еще улыбнулся и ничего не ответил. Мотор затарахтел трюх-трюх, затем громыхнул, Перси натянул перчатки.
– Quand tu voudras, mon gars, – сказал Ван, прибегнув к ужасному «ты» дуэлянтов старинной Франции, и пристукнул по крылу.
Машина скакнула вперед и скрылась из виду.
С колотящимся сердцем Ван вернулся на пикниковую поляну, помахав мимоходом Грегу, который чуть в стороне от обочины разговаривал с Адой.
– Нет, правда, уверяю тебя, – говорил Грег, – твоего кузена винить не в чем. Перси все это затеял и потерпел поражение в самом что ни на есть чистом матче «коротомы» – борьбы, распространенной в Теристане и Сорокате, мой отец наверняка тебе про нее рассказывал.
– Ты очень милый, – ответила Ада, – но голова у тебя, по-моему, совершенно не варит.
– И никогда не варила в твоем присутствии, – заметил Грег, садясь на своего черного безмолвного скакуна и терзаясь ненавистью к нему, к себе и к обоим задирам.
Он натянул очки и тихо тронулся с места. Уже и мадемуазель Ларивьер влезла в двуколку и вскоре затерялась в пестром пролете лесной дороги.
Люсетта подбежала к Вану, подогнув коленки, игриво обняла своего большого кузена за ноги и на миг застыла, приникнув к нему.
– Ступай, – сказал Ван, поднимая ее, – да не забудь безрукавку, голой ехать нельзя.
Подошла Ада
– Мой витязь, – глядя мимо него, сказала она с непередаваемой гримаской, заставлявшей всякого, кто видел ее, теряться в догадках, выражает ли она сарказм, восторг или пародию на то либо на другое.
Люсетта, размахивая грибной корзинкой, запела:
Покрутил он ей сосок,
Так что сок с него потек...
– Люси Вин, прекрати немедленно! – прикрикнула на бесенка Ада, а Ван, состроив гневное лицо, дернул девочку за маленькое запястье и одновременно шутовски подмигнул над ее головою Аде.
Беззаботная с виду троица приблизилась к «виктории». Рядом с ней кучер, досадливо хлопая себя по бокам, отчитывал встрепанного мальчишку из ардисовской дворни, только что вылезшего из-под куста. Мальчишка отсиживался там, мирно наслаждаясь потрепанным экземпляром «Таттерсалии», полным изображений великолепных, сказочно вытянувшихся скаковых лошадей, в итоге шарабан, набитый сонными слугами и грязной посудой, укатил без него.
Отрок вскарабкался на облучок, к Трофиму, заливисто «тпрррукнувшему» в спины сдавших было задом гнедых. Люсетта потемневшими зелеными глазами следила за тем, как занимают ее привычное место.
– Тебе придется усадить ее на свое двоюродное колено, – без выражения произнесла, обращаясь в пространство, Ада.
– А «La maudite riviere» возражать не будет? – рассеянно спросил Ван, пытаясь поймать за хвостик ощущение однажды уже совершившейся судьбы.
– А Ларивьер пускай засунет себе (и нежные бледные уста Ады повторили грубую шутку Гавронского)... К Люсетте это тоже относится, – прибавила она.
– Vos «vyragences» sont assez lestes, – заметил Ван. – Ты на меня сильно сердишься?
– Нет, Ван, совсем нет! Я очень рада, что ты победил. Но мне исполнилось сегодня шестнадцать. Шестнадцать лет! Больше, чем было моей бабушке при ее первом разводе. Наверное, это мой последний пикник. Детство стерлось до дыр. Я люблю тебя. Ты меня любишь. Грег меня любит. Все меня любят. Я уже лопаюсь от любви. Да поехали же, пока она не спихнула этого цыпленка – Люсетта, сейчас же оставь его в покое!
Наконец коляска покатила, счастливые дети возвращались домой.
– Уф! – крякнул Ван, едва на колено ему опустился округлый груз – и, кривясь, пояснил, что повредил о камень правую чашечку.
– Конечно, если человек не может обойтись без дурацкой возни... процедила Ада и (к бурному восторгу солнечной пестряди) открыла на изумрудной закладке коричневую с золотым обрезом книжечку, которую читала по дороге на пикник.
– Ничего не имею против легкой возни, – отозвался Ван, – а сегодняшняя раззадорила меня не на шутку и не по одной только причине.
– А я видела, как вы – возились, – обернувшись, сказала Люсетта.
– Чшш-чшш, – зашипел Ван.
– Я хотела сказать – ты с ним.
– Девочка, нам твои впечатления не интересны. И не нужно все время ко мне оборачиваться. Ты можешь заработать колясочную болезнь, особенно когда из тебя...
– Совпадение: «Jean qui tachait de lui tourner la tete...», произнесла, на мгновение всплыв на поверхность, Ада.
– ...когда «из тебя начнет выматываться дорога», как выразилась твоя сестра, когда ей было столько же лет, сколько сейчас тебе.
– Да, верно, – мечтательно и мелодично отозвалась Люсетта.
Они все же уговорили ее натянуть безрукавку на темно-медовое тельце. Недавнее валяние на земле оставило в белой ткани порядочно всякого сору сосновые иглы, комочек мха, сдобные крошки, крошечную гусеничку. На заполненных до отказа зеленых штанишках виднелись лиловые ежевичные пятна. Ярко-янтарные пряди летели Вану в лицо, вея запахом давнего лета. Семейный запах; да, совпадение; череда слегка сдвинутых совпадений; артистизм асимметрии. Она осела ему на колено грузно, мечтательно, foie gras и персиковый пунш переполняли ее, она почти касалась его лица тылом оголенных, радужно бронзовеющих загорелых рук – собственно, и коснулась, когда он глянул вниз, вправо и влево, проверяя, не забыли ль они грибы. Нет, не забыли. Мальчик-слуга читал и ковырял, судя по движениям его локтя, в носу. Плотная попка Люсетты, ее прохладные бедра опускались все глубже и глубже в зыбучий песок грезоподобного, переведенного на язык сна, искаженного преданиями прошлого. Ада, которая, сидя рядом, переворачивала маленькие странички своей книжки быстрее, чем мальчик на облучке, была, конечно, волшебнее, неотразимее, незыблемее и прелестнее, исполнена страсти более сумрачной и жгучей, чем в четырехлетней давности лето, – но сейчас он снова жил тем, другим пикником, и это Адины мягкие ягодицы держал он сейчас на коленях, как будто она раздвоилась, обратившись в пару выполненных в разных цветах репродукций.
Сквозь медного шелка пряди он искоса глянул на Аду, она тут же выпятила губы, словно посылая ему поцелуй (простив его, наконец, за дурацкую драку!), и сразу вновь углубилась в пергаменовый томик, «Ombres et couleurs», 1820 года издание повестей Шатобриана с рисованными от руки виньетками и плоской мумийкой засушенного анемона. Свет и сумрак леса проплывали страницами книги, по Адиному лицу и Люсеттиной правой руке, на которой он, не удержавшись, из одной только благодарности к двойнику, поцеловал след комариного укуса. Бедная Люсетта наградила его вороватым, томным взором и отвернулась, уставясь на красную шею возницы, – отвернулась от этого, другого ее возницы, который несколько месяцев неотвязно лез в ее сны.
Мы не станем прослеживать мысли, угнетавшие Аду, чья углубленность в книгу была куда поверхностней, чем представлялась; мы не станем, да собственно, и не сможем мало-мальски основательно проследить их, ибо память о мыслях намного тусклее памяти о тенях и о красках, или о корчах юного сладострастья, или об изумрудном змие в тенистом раю. Мы предпочитаем – нам так удобнее – отсидеться внутри Вана, покамест Ада располагается в Люсетте, обе они – в Ване (и все трое во мне, добавляет Ада).
Со сладкой мукой он вспоминал на все готовую юбку, бывшую в тот день на Аде, настоящую «взмывочку», как выражались чусские цыпки, и жалел (улыбаясь), что на Люсетте сегодня целомудренные панталончики, а на Аде брюки, напоминающие (усмехаясь) лущеный кукурузный початок. По мере рокового развития самых мучительных хворей порой выпадают (серьезно кивая) сладкие утра приятнейшего покоя, – они не навеяны каким-нибудь благотворным бальзамом или лекарством (указывая на пузырьки, стеснившиеся у изголовья), по крайней мере, мы не осознаем, что лекарство было нам подано любящею рукою отчаяния.
Ван закрыл глаза, чтобы полнее сосредоточиться на золотистом паводке ликования. Много, ах как много лет спустя он с изумлением (умудряется же человек сносить такое блаженство) вспоминал этот миг совершенного счастья, полного затмения пронзительной, раздирающей муки (piercing and preying ache), логику опьянения, круговую поруку доводов, ведущих к мысли о том, что даже самая ветроватая из дев поневоле остается верна, когда любит так же сильно, как любят ее. Он следил, как в лад мерным покачиваньям коляски вспыхивает Адин браслет, как солнце, падая на ее полные, чуть приоткрытые в профиль губы, высвечивает багровую пыльцу подсохшей в их тонких поперечных складочках слюны. Он открыл глаза: браслет, точно, посверкивал, но никаких следов помады на губах не осталось, и сознание несомненности того, что через миг он коснется их бледной и жаркой мякоти, обернулось угрозой беды, зарождающейся под торжественной тяжестью другого ребенка. Но тонкая, лоснящаяся потом шейка Адиной агентессы казалась такой трогательной, а ее доверчивая неподвижность такой трезвящей, – к тому же никакой украдчивый вымысел не мог сравниться с тем, что ожидало его в Адиной беседке. Тут и боль в колене подоспела на помощь, и честный Ван попенял себе за попытку использовать малютку-нищенку на подмену принцессе из сказки – «чья драгоценная плоть не должна покраснеть под ударом карающей десницы», как выражается Пьерро в переложении Петерсона.