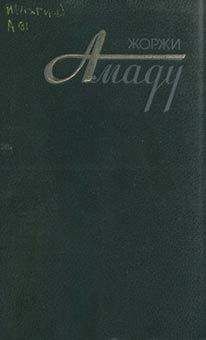и Олимпиада, 23 лет,
а также
Онуфрий Онуфриевич Дыло.
Господи, приими их дух с миром.
Почему — Дыло? Откуда — Дыло? И почему Евстигнею, Алексею, Олимпиаде, всем по двадцать три года? Разве так бывает? Близнецы они, что ли? А должно быть, умирали постепенно, дойдя до двадцатитрехлетнего возраста. Но все-таки: при чем Дыло?
Тогда, словно в ответ, сквозь неутомимую трескотню из пузатого подрясника, доска приветливо поднялась кверху, — эх, если б не так слипались глаза, — и нарастая, вздымаясь, громоздясь один на другой, раскачиваясь, смеясь, подмаргивая,
черепа, черепа, черепа, — а за ними
сам Онуфрий Онуфриевич Дыло, выше потолка, без головы, без рук, один подрясник — схватил потолок, да как тряха-нет, — только известка посыпалась, и чего он его трясет — неизвестно —
— Стучат.
Гость схватился с места.
— Кто?
— Хванас, ли Валюська. Я чичас, я чичас, ты тут посиди.
И в тесный проход, в щель темную, как немыслимая вздувшаяся гробовая мышь — и из щели:
— А шо? Кого? — и в ответ хриплое громыханье:
— Заведующий зоветь, расстрелошные попа просють.
— Я чичас, я чичас, кажи, шоб подождали.
Гость встал — и навстречу пузу:
— Я здесь сидеть один не буду.
— А-а-а, ну, погоди-погоди, вот Хванас с тобой посидит. Хванас, ты посиди, без тебе зароют, ты тут посиди, випий вот с ими, а я чичас, я чичас —
И, мотнув невидимым хвостом, исполинской мышью — в щель. А из щели в глине, в земле, — вывалил новый Дыло, обвязанный веретьем, с вежливым хрипом:
— Не помешаю, господин?
— Не помешаешь, садись.
Дыло деликатно — поодаль на гробницу — откуда она явилась — каменная, плоская, кто лежит под ней?
— Выпей.
Рюмка метнулась в пасть — как не провалится без естатка.
— И давно здесь Андрей Алексеич… отец Андрей свой кабинет устроил.
— Аны давно здеся пьють. С самого почитая.
— С какого почитая?
— А вот, как над ими почитай в соборе исделали, в попы обозначили.
— И хороший из него поп?
— Поп как поп. Обнакновенный. Что с попа взять? Отбил молитву — и на бок. Это тебе не в комиссии заседать.
— В какой комиссии?
— А во всякой. В мандатной, сказать… аль в кладбищенской.
— В какой мандатной комиссии?
— Без мандата на собрание не пущають. А комиссия мандаты проверяеть. Да неш вы, господин, не знаетя?
— Я не здешний. Ну, а на собрании что делают?
— Разное делают. Больше говорять, решають, как и что.
Гость пригнулся, так и вперился лихорадочно в красное, обветренное лицо, так и впился в безбровую, в безресницую щетину пожилых дней.
— Ну, и что же, что решают? Например?
Собеседник погладил колено, счистил кусок глины с своего веретья, с натугой вывалил:
— К примеру… сказать, хоша бы на кладбище новые ворота поставить, заместо старых.
— А старые — что?
— Сгнили, подвалилися.
— Ну, ну, ну, — и поставили?
— Да неш вы не видели? Чай, в ворота проходили.
А, чепуха. Пить надо.
— Пей, как тебя… Афанасий, что ли?
— Ахванасий.
И время заскрипело молчанием, закапало — кап! кап! — капля за каплей в углу, за надгробной доской, потекло, подпрыгивая, рюмками в горло, завертелось красным, обветренным лицом Афанасия — в тихую вечность, в темноту щелевого провала.
3.
— Времени восемь, — отметила мастерская резким звуком человеческого голоса в потрескивающем гореньи бензина, лязганьи ключей и постукиваньи металла.
И в этот момент стало ясно, что к вечеру машина готова не будет и что субботник придется продлить. Монтер Пузатов, как паук, присосавшийся к искалеченному снарядам мотору, с досадой швырнул французский ключ об пол, пошел в угол, порылся зачем-то в ящике с ломом и:
— Точно за деньги стараемся, чччорт…
— И правда, диви бы, за деньги, — сочувственно из углов мастерской.
Бесшумный начоркестра, торчавший у двери с тайной надеждой удрать и распустить своих людей, вдруг обнаружился беспокойным ерзаньем и шмурыганьем носа.
— Ну, а ты, ты чего вздыхаешь? — со злобой напустился на него Пузатов. — Музыка тоже, чччорт…
Начоркестра, томясь, вытер лысину, и, оправдываясь, зашарил глазами по чернорожим блузникам: нет, хоть измазаны копотью лица, а видно, брови сжаты до отказа, глаза смотрят в пол, не подыграешься, хоть колесом пройдись.
Тогда Ваня Дунин не выдержал, и, бросив гайку, к нему ласково:
— Табак ваш, бумажки дашь, спички есть, — покурим?
Начоркестра с готовностью портсигаром в нос и, словно освещая фонариком, заводил по всем носам.
— У меня есть, — еще ласковей сказал Ваня. — Одни крошки, зато своя и вежливо портсигар в сторону — не запачкать бы, и из кисета — в руку трясом — пыли — ее бы нюхать.
Всем полегчало от Ваниных спокойных слов, от потянувшихся новых — не масляных, не копотных — дымков — мастерская стала словно выше — не так болели спины. Начоркестра с шумными вздохами пыхал папиросой, беспокойно косился на дверь — это пока курили — и не дождавшись:
— Ну, а все же таки, товарищи… как же? а? когда можно ожидать?
И испугался, должно-быть — рано, не выдержал времени.
— Иди ты… к монаху в штаны, — рявкнул Пузатов. — Когда — когда! Свет только застишь, лысая образина… — верно, рано, теперь все дело испорчено… — когда — когда? шляются, только свет застят… Ну, а вы чего стали? И-и-и выпучили зенки… обрадовались, папиросами кормят… из пульсигара —
Выгнулись спины, заходили гайки в ключах, затюкали молотки и резко запахло краской. Ваня знал, что «пульсигар», это нарочно, чтоб унизить и подчеркнул себе: правильно, не надо было брать папиросы. Прошел мимо нача, подмигнул одобрительно, но не вышло: нач погас, потух, кончился и носом зарылся в усах.
Уже четвертый час Ваня возился над втулкой — приходилось подтачивать конус, и теперь, поднеся конус под тусклый электророжок, двадцатый раз убедился, что дело дрянь, что возиться нечего и что вряд ли конус пойдет. Давно пора было домой — мать ждала с ужином — Ваня вспомнил о двух воблах в кармане пальто, и решил лучше совсем не думать о доме и ужине. Вот, работают одиннадцать человек, а двенадцатый дожидается конца их работы, чтобы встретить конец торжеством, радостной победительной музыкой, и всех дома ждет ужин, мать, жена, сестра, а не бросают работы, не уходят. Что-то их держит. Должно быть, не приказ начальства о субботниках кто не хотел работать, тот и не остался, шестнадцать человек ушли в четыре часа.
Нервами, истощением, копотью в легких, домашней грызней изошли эти одиннадцать, а вот — тюкают, напрягаясь, надрываясь, чтобы когда-то торжествовать, чтобы, может, совсем никогда не торжествовать. Кончится работа, будет музыка, а радость? Лучше не думать.
Пузатов злобно возится над мотором, искалеченным осколком снаряда дело, видно, тоже безнадежное — может, не держать зря этого нача, отпустить, шепнуть, чтоб уходил…
Нет, нельзя, тут связанное дело, как веревками, цепями, цепочками, как связан мотор взаимностью частей. Нет, нельзя.
Воблы, гайки, копоть, — это все частицы души.
А по-настоящему, перед самим собой, это — теория.
На практике, по правде, практика и есть правда
— швырнуть бессмысленный конус в угол, уйти, убежать, ухнуть без ужина в постель, почти нет человеческих сил сдерживаться, заплакать можно. Жалко нача, жалко себя, жалко даже Пузатова.
— Времени десять, — бесстрастно отметила мастерская и стало ясно, что в углах — бездонно, что концов вообще нет на свете, что за воротами — не улица, а бездна, что никогда — никому — не попасть домой.
— У-у, курррва, — вякнуло в углу, над ящиком лома.
И вдруг
— упруго спрыгнув с пружины напряжения, бешено взвившись в низкий потолок, ударив, ударив в уши рядом повторных ударов, разрывая бездны, провалы, выбрасывая отысканные концы,
стррремительно трахнул мотор.
Ваня выпрямил согнутую спину.
Кренделем над мотором, весь вперившись в машину, в душу, в копоть, в рев клокочущей смеси, охотником в дичь, в трубу астрономом, влюбленным в глаза девушки, следователем в одежду преступника, Пузатов в мотор
— остановил, включил, снова остановил — включил, потом выпрямился, вытер пальцы о блузу и требовательно протянул руку к начу; тот понял, искательно мотнул портсигаром, а сам — весь в вопрос —
— Ну… ты шпарь домой. Завтра придешь, к семи. Ночью твоя музыка не нужна.
4.
С холодного скользкого дивана — чуть не кувырком — одеться и бежать… Куда бежать?
Мысль, заработавшая ясно, споткнулась и стала.
Что? Что было? Что было?
Зашарил руками по столу — наткнулся рукой на холодное, скользкое, маленькое — ггадость, мокрррица, ффу! спички… чиркнул
— прямо в лицо лезла бутыль с желтой жидкостью, вспомнил: самогонка, принес Афанасий, его послал, воротившись, Андрей Алексеич, то есть отец Андрей, поп.