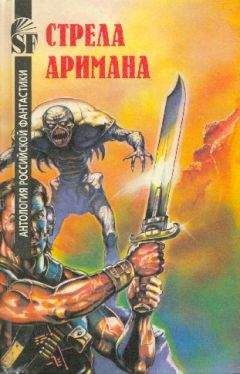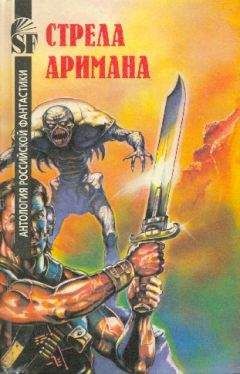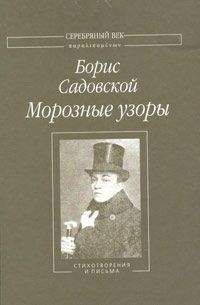Мокеев натужился с усилием, и на багровом лице его заранее можно было прочесть ответ, который выпалил он, глядя в упор на командира:
- Никак нет, господин полковник.
- Как нет! - взвизгнул, будто ошпаренный, полковник.- Как нет! Но ви носит наш славный эполет!
У Мокеева на красную уланскую грудь заструился горячий пот. Он отстегнул третью пуговицу, вытащил по форме сложенный лист и протянул командиру.
- Что такой?
- Рапорт об отставке. Дозвольте уйти из полка.
Полковник развел руками и склонил беспомощно лысую голову с редкими прядями крашеных косиц. Офицеры зароптали. Бурбон недоумевал.
- Да разве зе вам мозно теперь в отставку? - сказал грубо Мокееву его начальник, командир шестого эскадрона, ротмистр Алфераки, носатый маленький грек, с желтыми белками, вечно нахмуренный и сердитый.- Этакую историю развел, а потом в отставку.
- Какую историю я развел, господин ротмистр? - возразил Мокеев.- Меня прибили, да я же и виноват?
- Молчать! - закричал полковник.- Ви не смейт так разговаривать! Ви трус!
Он выхватил из рук Мокеева рапорт, разорвал на мелкие клочки и яростно истоптал ногами.
Тут из группы эскадронных командиров выделился Кант и густым кашлем подал знак, что хочет заговорить.
- Господин полковник и господа офицеры! - Все притихли, навострив уши.- До утра будем толковать, а всё не договоримся. Черного кобеля не отмоешь добела. Ясней бы сказал, да эполеты на нем наши, а оскорблять полк я не хочу. Только думаю так, что покудова он их носит, последнее слово будет за командиром.
Барон понял. Желтые пятна на смуглом лице его порозовели. Движением руки установил он полную тишину и торжественно приподнялся с кресла. Встали все. Мокеев тупо глядел на командира.
- Корнет Мокеев,- строго заговорил полковник.- Я буду отдавайт вам приказаний по служба. Завтра ви будет драться с корнет Гременицын.
Все уставились на бурбона. Он вытянулся, руки по швам.
- Слушаю, господин полковник.
Вздох облегчения провеял по комнате. Все повеселели.
- Господа субалтерн-офицеры,- продолжал полковник,- извольте идти на свой дело.
Младшие офицеры откланялись и быстро, с легким жужжащим говором, почти выбежали один за другим из баронова дома. В окно слышно было, как полковник, похлопывая Канта по плечу, весело говорил:
- Толковайт об условиях дуэля ми будет после, а теперь, я думаю, господа, не мешайт нам задать маленький пуншаций. Прошу вас, снимайт вашу униформу и садите за стол.
Два денщика поставили бережно перед бароном пылающую миску с пуншем.
Мокеев и Пискунов возвращались вдвоем. Близость ли опасного поединка, измена ли любимой невесты, другие ли какие причины произвели в характере Евсея Семеныча внезапную и решительную перемену. Он перестал походить на бурбона и будто утратил сразу все типические свои черты. В походке и во всем поведении Евсея Семеныча засквозило нечто совсем иное: он раскис, стал говорить нараспев, подпирая ладонью по-бабьи щеку, и поглядывал на товарища добрыми телячьими глазами. И вид у него вдруг сделался такой, точно для смеху перерядили его в уланского корнета.
- Эх, брат Петр Иваныч,- сказал он, почесавши за ухом,- убьют меня завтра господа.
- Ну, не говори, еще неизвестно.
- Убьют, беспременно убьют, вот поглядишь сам. Эх, жисть! И тут тебе незадача. Только было в люди вышел, офицер, этта, и всё, мне бы дураку в отставку, так нет: жадность одолела. Дослужусь, мол, до эскадронного. Вот те и дослужился.
Пискунов молча сопел.
- И чудно эфто, Петя: сколько годов я деревни не видал; забыл, стало быть, вовсе мужиц-кую нашу жисть, как и что. Да оно и некогда: зимой в казарме, летом на траве, всё служба да служба. А тут, намедни, как он меня хлестанул и пошел, этта, я из рощи, встречь мне ровно бы дымком, знашь, потянуло маненько, курным дымком. Тут я всё и вспомнил. И деревню вспомнил, и улицу, вот как на картинке: журавец, этта, и бадья, стадо гонят, ну, вот тебе всё до малости, как есть. И еще вспомнил, как матка, бывало, под праздник блины яшные пекла, и так мне блинов эфтих самых захотелось, знашь, с конопляным маслом, горячих. У нас ведь в Лукояновском всё конопля, и дух от нее чудесный, по полям так и плывет и плывет... Петь, а Петь?
- Ну?
- Прощавай покуда. До завтраго. Ты у меня эфтим, как его... секу... секундором-то будешь?
- Сикундатом? Я, а то кто же? Ты спать?
- Высплюсь, пораньше встану. Как еще Бог поможет. Так не робить, что ли?
- Чего робить? Для виду всё. Пальнете мимо по разику, а там и рапорт твой полковник честь честью примет. Балуются господа.
Евсей Семеныч распрощался с товарищем, но не до сна ему было. Не то зашевелилось у него в уме. В три минуты по темным задам, где в росистой крапиве кузнечик оглушительно трещал в самые уши и охали сычи, мимо взлаивающих пугливо сторожевых псов, бегом спешил Мокеев к фершалову домику, перемахнул плетень и, крадучись под забором, подступил к заветному окну. Он не обманулся в ожидании. Маша у окошка глядела на голубую холодную луну и вздыхала, слушая запоздалого комара, напевавшего ей уныло. Увидя жениха, она вздрогнула, но не отвернулась.
Заплясавшие непослушно губы не сразу дали бурбону заговорить.
- Ма... Маша... Марья Степановна.
Евсею Семенычу всей душой хотелось сказать много хороших слов, но язык, неповоротли-вый, как колода,- бурбонский язык,- понес свою чепуху:
- Дозвольте объясниться. Как ежели я посмел вас беспокоить, то не иначе как в сем приятном упованьи...
Бледные губы Маши открылись, и бурбон услыхал:
- Подлец ты постылый, рябая рожа. Ненавижу я тебя, будь ты проклят, анафема.
Окошко захлопнулось, и Маша исчезла.
Странное чувство родилось тогда в размягченном сердце бурбона. Машины слова будто чародейством каким превратили сердце его мгновенно в холодный камень, и в то же время злоба, бешеная и страстная, так жарко заклокотала в его густой крови, что, кажется, попадись Мокееву сейчас Гременицын, он бы убил его на месте. Самые шаги бурбона отяжелели, как будто толстые голенища его налились злобой, и погребальным звоном мерно и глухо вызванивали уходящие шпоры: месть! месть!
По мере того как удалялся Евсей Семеныч от Машиной избы, с другого конца к ней подходил Гременицын. Заслышав знакомую быструю походку, Маша по пояс высунулась из окна и обхватила жадно горячими руками надушенную голову стройного красавца в бирюзовой фуражке. Гременицын поднял ее на руки и понес.
- Куда ты? Пусти,- шептала Маша.
Оба остановились, оглянулись, и быстро, взявшись за руки, побежали к роще.
Бессонные совки и надоедливые сычи долго пищали, сдуру дразнясь и покрикивая на дремотную луну, а у старого дуба, на скамейке, звучали поцелуи. Величавый лесной царь, гордый доверием влюбленных, благословляя, простирал над ними мощные свои ветви.
Всё было понятно теперь и ясно обоим. Завтра Гременицын проучит для виду глупого бурбона, потом дождется перевода в гвардию и увезет с собой Машу в Петербург. Яркие картины грядущего проплывали перед счастливцами стоцветной шехерезадой, и только когда красноперые цапли замахали крикливо навстречу новому солнцу, любовники вернулись, наконец, от счастия к жизни.
В семь часов брызнул и тотчас рассеялся мелкий дождь. Гременицын и Кисляков верхами проскакали рощей, спеша к месту дуэли.
У скамьи под старым дубом трава была примята и голубел забытый кисейный шарфик. Гременицын вздохнул.
Ротмистр Кант, с согласия полковника, выбрал поединок на саблях. Противники, крепко сцепившись левыми руками, после команды дают друг другу по одному удару. При крайней жестокости своей, дуэль эта наименее опасна. Не у всякого хватит духу рубить человека насмерть, стоя лицом к лицу.
Врагов развели. Мокеев тупился, сгорбясь. Молча выслушал он наставления и наказы Канта.
Гременицын с отвращением почуял, как цепко охватила руку ему потная лапа бурбона.
Кант крикнул команду: раз, два, три!
Бурбон не двигался и не подымал глаз, только рука его стискивала всё крепче холодные пальцы Гременицына.
Владимир Николаич поморщился и ударом наотмашь сбил плашмя с головы Мокеева фуражку. В тот же миг бурбон дико поднял кровавые глаза, и Гременицын зажмурился невольно, встретя их медвежий, освирепелый взгляд.
Со всей силы обрушил Мокеев удар свой на голову врагу, крякнув, как будто рубил капусту. Гременицын свалился. Голова его разъята была надвое вместе с фуражкой; тяжелая сабля с маху перешибла тонкое переносье и вытекший левый глаз и застряла в белых зубах, раздробив свежевыбритый подбородок.
Секунданты в тупом оцепенении глядели на дергавшийся последними судорогами труп. Кровь, струясь ручейком, мочила подошвы Кислякову. Бурбон, стоя над покойником, ревел в голос, как баба, и крупные слезы дробно бежали по рябым щекам.