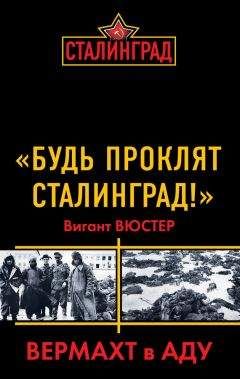– Мы с Потаповым сидели в одной камере. Сильный изобретатель, даже к ордену хотели представить за рационализации. Но одно не удалось. Естественно, пришили вредительство. Не орден вытянул, а ордер.
Мы тысячеголовой массой выстроились с обеих сторон платформ и потащили состав назад. Это оказалось совсем не тяжким делом. Хандомиров не преминул подсчитать, что в целом мы составили механическую мощность в триста лошадиных сил – много больше того, что мог развить старенький паровоз. Зато вытягивать колею и передвигать ее на место посуше было гораздо трудней. Мешали и бугорки на новом месте, их кайлили и срезали лопатами, – у машиниста нашелся и такой инструмент. Потапов ходил вдоль переносимой колеи и, проверяя укладку шпал, строго покрикивал:
– Без туфты, товарищи! Предупреждаю: туфты не заряжать.
Новая колея заполдень была состыкована со старой, – использовали запасные шпалы и рельсы. Мы снова вмялись на платформы, состав покатил дальше.
Вечерело, когда поезд прибыл в Норильск. Снова первыми соскочили со своей платформы конвойные и псы. Пулемет с глаз удалили, но винтовки угрожающе нацеливались на этап. Спрыгивая на землю, я упал и пожаловался, что предзнаменование зловещее – падать на новом месте. Ян Ходзинский не признавал суеверий и посмеялся надо мной, а Хандомиров заверил, что начинать с падения на новом месте не так уж плохо, хуже кончать падением. И вообще, хорошо смеется тот, кто смеется последним. Мне было не до смеха, болело правое колено – недавняя цинга, покрывшая черными пятнами сильно опухшую ногу, еще не была преодолена, каждое прикосновение вызывало боль. А падал я на проклятое правое колено. Хромая и ругаясь, я приплелся в строй. Хаотичный этап понемногу превращался в колонну, по пять голов в ряду. Над заключенными возносились команды и руготня стрелков, их сопровождал визг и лай собак, псы рвались с поводков, чуя непорядок и горя желанием клыками восстановить его. Наконец раздалась команда: «По пяти, шагом марш!» – и колонна двинулась.
– Тю, где же обещанный город? – сказал Прохоров шагавшему рядом со мной Хандомирову. – И следов города не вижу.
Города, и вправду, не было. Была короткая улица из десятка деревянных домов, а от нее отпочковывалась другая и, по всему, последняя улица, тоже домов на десяток: среди тех домов виднелись и каменные на два этажа. Я поворачивал голову вправо и влево, стараясь запомнить облик каждого дома.
…Мне в будущем предстояло дважды в день в течение многих лет шагать по этим двум улицам, каждый дом стал до оскомины знаком. И хоть уже десятилетия прошли с той поры, когда впервые шагалось вдоль тех деревянных и каменных домиков, я вижу каждый, словно снова неторопливо иду мимо них. Улица, начинавшаяся от станции, называлась Горной, и открывал ее одноэтажный бревенчатый дом, первая стационарная норильская постройка, возведенная геологом Николаем Николаевичем Урванцевым, еще в двадцатые годы детально разведавшим Норильское оруденение и открывшим здесь, на клочке ледяной тундры, минералогические богатства мирового значения. Урванцев руководил тремя экспедициями в район Норильска, а в тот день, когда я с товарищами по беде шагал по сотворенной им улице, он тоже находился в Норильске и был в такой же беде, как мы – из первооткрывателя заполярных богатств превращен в обычного заключенного, впрочем освобожденного от тяжких «общих» работ: продолжал в новом социальном качестве прежние свои геологические изыскания. Мне предстояло вскорости с ним познакомиться – и много лет потом поддерживать добрые отношения. Большинства увиденных нами домов теперь уже нет на той первой норильской улице, а дом Урванцева стоит и в нем музей его имени, мемориальное доказательство его геологического подвига. А рядом с музеем торжественная могила – в ней прах самого Николая Николаевича Урванцева и его жены Елизаветы Ивановны, часто сопровождавшей мужа в его северных экспедициях и приезжавшей к нему, заключенному. А на бронзовой стеле простая надпись: «Первые норильчане» и дата их жизненных дорог: 1893-1985 гг. Оба родились в один год и умерли почти одновременно в Ленинграде, прожив каждый 93 года. Прах обоих перевезли на вечное упокоение в город, созданный трудом самого Урванцева, город, где он проработал потом пять лет в заключении и где теперь, кроме музея его имени, есть и набережная Урванцева. Потомки хоть таким уважением к памяти отблагодарили его и за выдающиеся труды, и за незаслуженное страдание. Древность сохранила легенду о супружеской паре Филимоне и Бавкиде, которых боги за чистоту души одарили долголетием, правом умереть одновременно и вечной памятью потомков. К древним богам двадцатый век не сохранил почтения, но благодарность за благородную жизнь неистребима в человеческой натуре – супружеская чета Урванцевых тому возвышающий душу пример…
Но все это было в далеком «впоследствии», а в тот день, проходя мимо домика Урванцева, я лишь бросил на него невнимательный взгляд. Зато мы все дружно приметили двухэтажное строение на той же стороне Горной улицы. Мы еще не знали, что оно называется «Хитрым домом», а правильней должно бы называться «Страшным домом» – в нем помещалось Управление Внутренних дел и местная «внутренняя» тюрьма. Но зловещая архитектура – решетки на наружных окнах, «намордники» на окнах во дворе да охрана у входа – все это было каждому горько знакомо и у каждого порождало все те же, еще не ослабевшие воспоминания: по колонне пробегал шепоток, когда ее ряды шествовали мимо «Хитрого дома».
А на другой стороне улицы красовался деревянный домина с прикрепленными к фасаду кривоватыми колоннами – архитектурное свидетельство, что здание культурного назначения.
– Театр! – безошибочно установил Хандомиров. – Что я вам говорил? Город! Улиц, правда, не густо, да и домов не убедительно, но зато культура!
– Культура, да не для нас, а для вольняшек, – огрызнулся Прохоров.
– Вряд ли местные вольняшки взыскуют культуры, – заметил наш сосед по ряду, высокий, очень худой – его звали Анучиным, мы с ним вскоре подружились.
Впоследствии мы узнали, что все трое спорщиков оказались правы: деревянное здание служило театром (играли в нем, естественно, заключенные), пускали в него только вольных, но вольные театр не жаловали, зал заполнялся от силы на четверть – существенное отличие от клубов в лагере, где те же артисты собирали зрителей и «в сидяк, и в стояк», как выражались иные, покультурней, коменданты из «своих в доску».
За театром показались сторожевые вышки, вахта, мощная стена из колючей проволоки, необозримо протянувшаяся вправо и влево. Уже стемнело, но с вышек лилось прожекторное сияние. Плотные ряды охраны образовали живой желоб, по нему в лагерь одна за другой вливались пятерки заключенных. Начальник конвоя громко отсчитывал: «Сто шестая! Сто седьмая! Сто восьмая, шире шаг! Сто девятая, приставить ногу! Кончай базар, разберись по пяти! Сто десятая, повеселей!»
Мы с Хандомировым, Прохоровым, Ходзинским и Анучиным проскользнули через вахту без особых замечаний. За воротами нас перехватил комендант заключенный не то из уголовников, не то из бытовиков, и яростно заорал, словно мы в чем-то уже провинились:
– Куда прете? Сохраняй порядок! Организованно в семнадцатый барак! Номер на стене, баланда на столе. Направо!
Семнадцатый барак был далеко от вахты, мы не торопились, нас обгоняли пятерки пошустрей. Но они спешили в другие бараки, в семнадцатом мы были из первых. На столе стоял бачок с супом, горка аккуратно – трехсотграммовые пайки – нарезанного хлеба. Дневальный из бытовиков наливал каждому полную миску. Мы бросили свои вещевые мешки на нары – я облюбовал нижнюю, из уважения к одолевшей меня цинге ее не оспаривали – жадно опорожнили миски и «умяли пайки». От сытной еды потянуло в сон. Хандомиров, оглушительно зевнув, объявил, что и на воле утро всегда мудреней, а в лагере дрыхнуть главная привилегия добропорядочного заключенного. Спустя десяток минут, мы все спали тем сном, который именуется мертвым.
Видимо, я спал дольше всех. Вскочив, я обнаружил в бараке одного дневального, последнюю хлебную пайку на столе и остатки супа в бачке, до того густого, что в нем не тонула ложка.
– Остатки сладки, – попотчевал меня дневальный. – Специально для тебя не расходовал гущины. Гужуйся от пуза – пока разрешаю. Пойдете на работы, суп станет пожиже – по выработке. И носить будете сами из раздаточной.
– Как называется наше местожительство? – спросил я.
– Не местожительство, а второе лаготделение. – Дневальный подмигнул. А не местожительство потому, что в дым доходное. Жутко вашего народа загинается. От первого этапа, за месяц до вас, сколько уже натянуло на плечи деревянный бушлат. Не вынесли свежего воздуха и сытной жратвы. Учти это на будущее. Чего хромаешь?
– Цинга. Ноги опухли.
– С ног и начинается! Деньги имеются?