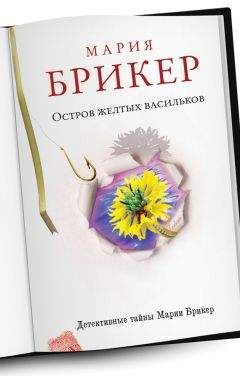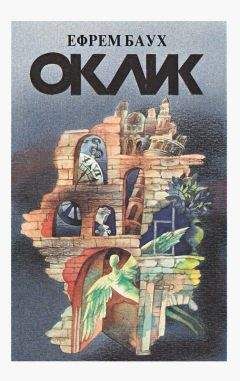Хутор наш Марушанка просторный, многолюдный - с широкими улицами и кривыми неухоженными переулками, которые сбегаются к площади. На ней уместилось футбольное поле, по нему с азартом, лихо гоняли полосатый мяч ребятишки, как некогда гонял и я; а за воротами, у штакетной ограды, свободно расхаживали индюки и телята. Площадь - на возвышении, отсюда открывается вид на горы. Синея вершинами, они полукружьем подступают к хутору, а вблизи, обтекая огороды, среди облепихи, верб и ольхи нет-нет да и блеснет на солнце, взыграет живой серебристой рябью Касаут, несущий свои воды к черкесским аулам, в манящее туманное марево, где катит навстречу ему прозрачную волну Малый Зеленчук - младший брат Кубани. Предки наши, родом из российских глубинок, с Чернигова да с Запорожской Сечи, народец вольный и рисковый, когда селились тут по указу царя, высокое место для площади облюбовали недаром: отсюда видно на все четыре стороны.
Меня наполняет чувство простора в душе и беспричинного веселья, когда я оказываюсь на площади и вижу вокруг себя белые дома, яблоневые и вишневые сады, ольховые плетни, потемневшие заборы и возле них лавочки, кое-где даже глиняные, как в старину, завалинки, лошадей, женщин на берегу Касаута, которые без устали полощут белье и приголубливают его вальками, когда смотрю на просевшие, зеленые от мха углы неумолчно гудящей маслобойни...
Остаток дня я провел на Касауте. Ходил по дерезе, обсыпанной буровато-зелеными тугими ягодами, ложился на грудь и, как в детстве, пробовал, потягивал сквозь зубы, до ломоты в них, прозрачную воду из родничков, пробивающихся наружу из-под камней заглохшего, занесенного песком ручья-отводка. Повсюду кустиками, а то и латками пер из земли щавель. Кое-где он уже пустил стебли, сочные и на вкус резковато-кислые, и норовил выкинуть бордовые метелочки с семенами. Когда особенно припекло, я искупался в ямочке, оказавшейся мне по грудь, в общем - не глубокой и не мелкой, в самый раз; упругое, крутое течение сносило и почти выбрасывало на тот берег, сплошняком заросший верблюжьими колючками; возвращаться назад босиком было неудобно. Но не это остановило и заставило меня поскорее одеться. Приглядевшись к воде, я увидел на ее поверхности, там, где она была относительно спокойной, сизые пятна, которые тянулись бесконечно, то удлиняясь то сбиваясь у берега в жирные, с фиолетово-радужными блестками, круги. Меня поразили они. Раньше я никогда не видел их на реке. Чистая, как слеза, вода и эти пятна... Откуда они? Думая о них, я не заметил, как прошел мимо хутора и очутился на Постовой круче. Вид ее отвлек меня от неприятных мыслей. Бугрится она вдоль Касаута, местами осевшая, коряво размытая, изъеденная талою водой либо разъезженная колесами прадедовских бричек, подступает с тяжко нависшими глыбами к белым неспокойным бурунам, прогибается подковами, давая простор реке, разлившейся на множество рукавов, которые часто прячутся в сизой дерезе и в золотистых свечках и сине, весело светятся из них в оправе выбеленных солнцем голышей. Иной раз Постовая круча так неколебимо и круто вознесется ввысь, что, взойдя на нее, поймешь: иначе ее и не могли назвать наши предки, выставлявшие здесь неусыпные сторожевые посты. Отсюда удобно было наблюдать за всем, что творилось на той стороне, за Касаутом, упреждая налеты не в меру горячих абреков... В двух километрах от хутора круча вздымается над долиною подобно скале, настораживая непривычный взгляд оспинами желтовато-серых пещер, отороченных по краям неприхотливыми ветками алычи, дикой кислицы и красного шиповника, невесть как прижившихся на твердой глине. Мы гоняли сюда пасти телят. Нас, мальчишек разного калибра, набиралось довольно много, примерно столько же, сколько было в нашей округе коров. Неизменно был с нами и Матюша. Он блаженствовал вдали от мачехи и обычно сидел в отдалении ото всех на круче, одетый в старый отцовский кожушок, в грубые, жесткие брюки, сшитые Дарьей из шинельного сукна. На голове у него красовалась пилотка с рубиновой звездочкой, а в руке он держал сплетенную из сыромятного ремня плетку с махрами возле орехового кнутовища. Наседала жара, мы доставали припрятанные в тени бутылки с молоком, выпивали его и шли купаться, часто оставляя Матюшу одного приглядывать сверху за телятами. Он соглашался и терпеливо ждал нас, пока мы нарезвимся в воде.
В сумерках, отпустив телят, мы затеивали игры в войну, оглашенно носились по круче, забирались в пещеры, прыгали из них в темную глубокую воду и сходились врукопашную на том берегу. Нередко дело доходило до драк.
Матюша тоже играл, но, если было можно, отказывался, отходил в сторону и смотрел издали на долгие потасовки. Мы прощали ему, потому что знали: бегать неудобно в толстых суконных штанах. Они до крови натирали икры ног и коробились на нем ржавой жестью, точно их однажды после стирки прихватило лютым морозом и больше не отпускало.
Ночью игры становились жестокими. Многие из нас помнили войну, видели настоящих, живых фрицев, которые проходили через хутор в ботинках с ребристыми подошвами и в фуражках с изображением белой лилии на околышках - символом недоступного цветка эдельвейса Они тащили горные пушки и надеялись сорвать эдельвейс на скалах, у вечных ледников, одним броском перемахнуть через перевалы Главного Кавказского хребта и очутиться в Сухуми, понежиться на черноморских пляжах. Для острастки они повесили на площади схваченную в лесу девушку-партизанку. Марушанские ребята, кто был немного старше нас с Матюшей, близко видели из-за плетней и загат, как ясным, солнечным днем альпийские егери накидывали петлю на шею замученной ими девушки, а потом ловили во дворах и в дерезе гусей, с хохотом резали пронзительно визжавших поросят, беспорядочно стреляя в воздух из автоматов...
У многих ребят не вернулись домой отцы или пришли с фронта калеками. Какие же игры, кроме этих, могли удовлетворить пылавшее в нашей груди недетское чувство мести?!
Мы играли самозабвенно, всерьез. "Русские", позвякивая отцовскими медалями на груди, выкраденными из сундуков, шли напролом на стойко державшихся "фрицев", нервы у всех обострялись, воображению рисовался настоящий бой - и вдруг открывалась пальба из самопалов, пахло порохом, в ход шли палки, комья сухой глины, камни... Сейчас я удивляюсь не этой свирепости, а больше всего тому, как это мы тогда, по наивной хмельной забывчивости, в пылу отваги никого не убили и даже никому не посекли лицо дробью. Правда, один раз кто-то проломил голову Егору Нестеренко, нынешнему соседу Касатки; игра в тот вечер прекратилась, Егора отвезли на мажаре в амбулаторию, там его перевязали и отпустили домой.
Этот урок ничему нас не научил, мы продолжали играть. Однажды весною возле Чичикина кургана остановились табором цыгане. Мы бегали глядеть, как они раздувают горн и вытягивают нагретое добела железо, с какою проворностью заливают оловом прохудившиеся чугунки и алюминиевые тарелки. Больше всех нам нравился средних лет, необыкновенно красивой наружности хромой цыган. Белые как сахар зубы, смоляная, плотная борода и такой же вьющийся, спутанный на лбу чуб поразили нас. Он был добр и весел, постоянно что-то напевал вслух, шутил, никогда не отгонял нас от своего рваного шатра и даже позволял раздувать мехи у горна, а самым ловким и смышленым давал тронуть маленьким молотком-подголоском наковальню. С его женою, истинной черноглазой красавицей, наряженной лучше других женщин табора, близко сошлась Касатка. Почти каждый вечер она приносила ей то картошки, то хлеба, подолгу сидела в шатре, училась паять кастрюли, иногда бралась ковать, помогая ее мужу, искусному кузнецу. Ловко у них выходило вдвоем, когда цыган, разгорячившись, дико блестя глазами, в которых плясал огонь, тяжелым молотом бил по мягкому, озарявшемуся искрами железу, смело выправлял и придавал ему нужную форму, а Касатка, подбадриваемая его вскриками, смеялась и наддавала жару молотком-подголоском, пускала трепетную дробь. В такие минуты все цыгане сбегались к шатру и любовались веселой работой.
Но скоро они уехали от нас с проклятиями, и причиною тому были мы, наши игры. Теплой ночью, при светлой луне, мы так разохотились, настроили себя на бойцовский лад схватками на круче, что кто-то из нас, не выдержав, крикнул:
- Ребя, заряжай самопалы! Аида бить цыган!
- Смерть фашистам! Смерть! - завопили все разом и ринулись через поле к Чичикину кургану, по пути набивая в самодельные стволы порох и мелкое свинцовое крошево, заменявшее дробь. Хотя от макушки кургана ложилась на шатры тень, табор виднелся ясно, и мы, подходя к нему по всем правилам военного искусства скрытным рассыпным строем, видели, что костры едва тлеют: слабые дымки мешаются с волнообразным, зыбким сиянием луны. Тихо. Ни голоса, ни звона наковален.
Фашистские егери спят, не чуют приближения наших осторожных шагов. Мы сегодня расквитаемся с ними за все.