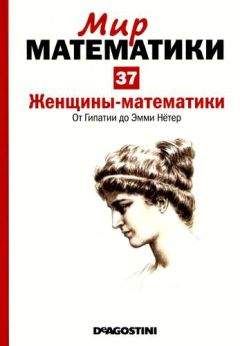Он обводил потрясенным взором призрачный объем неожиданного помещения, и оно казалось ему удивительно подходящим, заслуженным и оправданным в своей неправдоподобности. "Со мной уж только неправдоподобное и должно происходить..." - горько усмехался Монахов. Господи! как мучителен опыт! Не приобретение его, не рождение, нет - сам опыт, его наличие. Какая нечистота!
...Когда, в детстве, были реальны чувства - нереальны были люди: они были носители, объекты, они были - образы. Когда же опыт придал людям реальность в наших глазах - нереальны стали чувства. Теперь как бы чувство стало образом, образом чувства. Чувства нет, а есть его образ: не любовь образ любви, не измена - образ измены, образы дружбы, труда, дела и т. д. И человек с опытом стал еще меньше разбираться в этом мире, чем ребенок, еще более запутался в нем из-за нереальности собственных чувств. У него появился выбор там, где раньше чувство не предоставляло выбора: любит - не любит, сделать - не сделать, поступить - не поступить... И оба варианта, по опыту, вдруг сказались однозначны, равновеликий выбор: одинаково хорошо, или одинаково плохо, или одинаково все равно - уехать или остаться, придут к тебе или не придут, и даже вот: переспать или не переспать... Свершение грозит пустотой и разочарованием, и тогда все несостоявшееся, небывшее, непроисшедшее приносит чуть ли не удовлетворение, едва ли оправдываемое сохранением энергии и прочих возможностей - последних ресурсов.
Как в метели.
Давно бредешь, и устал, и темнеть стремительно начало. И нет уже ни времени, ни сторон света. Откуда вышел и куда идешь? И утробы-печки не видать уже, и цели не видать еще. Середина. Воет. Крутит. Смерч. В сон клонит. И страх вдруг исчезает. Тепло и равнодушно. В сугроб - и спать...
Почти так думал он, гремя яблоком, и оно грохотало, когда он его жевал, грохотало в его голове, как камнепад, и лишь постепенно, внушением, убедил он себя, что это не всеобщий грохот, от которого все просыпаются и вскакивают с постели и несутся с криками ужаса и непонимания, а лишь его собственный, маленький, внутренний грохот, в полной, глухой тишине. "И мы в тиши..." - какие-то строчки вспомнились ему, забубнили в нем. "И мы в тиши та-та-та-та-та..." Откуда, чьи?.. Они очень нравились ему когда-то - это он вспомнил,- волновали его. Хотя он их не понимал тогда. Будто своей непонятностью они ему нравились...
И мы в тиши полураспада
на стульях маленьких сидим...
только и удалось вспомнить ему теперь, И тут холодный восторг понимания, полного понимания этих невнятных строк поразил его. Надо же! Как бы ни был далек поэтический образ, чужд и странен - он, прежде всего, всегда конкретен, даже не только точен, а именно предметен до чрезвычайности. Вот он, Монахов, сидит на маленьком стульчике, в такой уж тиши... У-ди-ви-тель-но! "Это о нем, именно так, правильно, так..."- С уничижающим восторгом думал Монахов, слезы навернулись ему на глаза. Тогда он эти стихи помнил, но не знал, а теперь знает, но не помнит... Слезы наполнили ему глаза и тут же кончились, хотя ему так хотелось плакать безудержно, навзрыд - но уже не получалось, уже прервалось. Разучился... И он лишь длил их, две Сладкие большие слезы, боясь сморгнуть.
Сверху заплакал ребенок. Монахов взглянул на потолок, и слезы скатились. Снова раздались голоса, возбужденные, они росли, приближались. Один был Асин, убеждающий, другой - неприятно простой, подозрительный. Монахов больше не пугался, не замирал, и сердце его не ёкало - размеренно билось его сердце, и, даже если бы сейчас его арестовали и повели скованного, он, казалось, не возражал бы.
Но Ася убедила, шаги, голоса стали удаляться, и тогда в Монахове что-то испарилось и исчезло, как то же облачко. Он смотрел в окна - они, пожалуй, посветлели: стулья и кони выплыли из углов и потеряли в таинственности, становясь просто скучными, облезлыми. Он чувствовал себя ждущим словно бы с температурой в больнице, чтобы получить бюллетень, ждущим с пустотой и апатией начинающегося гриппа, чтобы уйти после всех этих ненужных осмотров и записей и тихо лечь и попытаться уснуть. Впервые, быть может, за этот день зашевелилось в нем и опасение перед домом, поздним возвращением и объяснениями. Правда, жена в больнице, но тем более ему должно быть стыдно и неловко - однако эти совестливые веяния он прогнал. Он еще отодвигал предчувствия расплаты ж даже подумал: за что и какая тут может быть расплата? Просто объяснить ничего никому по правде невозможно... Ну, соврет что-нибудь: жена-то в больнице, а мать его не выдаст... Тут же он морщился от подобных своих соображений, но беспокойство росло, и озабоченность, как все это кончится и утрясется, кружила над ним и снижалась.
И когда Ася снова вошла, они посмотрели друг на друга в этой предрассветной, казенной и нетаинственной комнате издалека, отчужденно, И лишь секунду какую-то было Монахову неприятно, что и Ася - тоже, что в ней тоже кончилось, но тут же он внутренне с нею согласился, и так было даже удобнее ему и быстрее.
- Ты знаешь,- вяло сказала Ася,- там стерва одна что-то заподозрила... Придется тебе сейчас уйти. Ну, дождется она у меня! - Тут у Аси в голосе появилось чувство.- Пошли. Надо быстро пройти, пока она снова не высунулась. Я ее в кладовку упрятала...
- Как упрятала? - равнодушно удивился Монахов.
- Ну, послала... Ну, иди же.
И они пошли, и путь был куда короче, чем показалось сначала Монахову. В дверях Ася сказала равно- душно:
- Ну, ты позвонишь?
Монахов помялся ответить.
Тогда, на секунду, взгляд Аси стал как-то глубок и внимателен, в нем блеснул печальный огонек усталого ожидания и погас.
- Позвоню... - невнятно сказал Монахов.
- Позвони, слышишь? - вдруг звонко и отчаянно зашептала Ася.- Позвони обязательно! Слышишь? Слышишь? - трясла она его, будила...
- Позвоню... обязательно... - сонно сказал Монахов.
И вот дверь за ним закрылась, и он степенно пересекал площадку перед домом, сдерживая внутренний бег, а когда свернул за куст, где на секунду увидел себя стоящим с туфлями в руках, вздохнул изо всех сил и побежал. Он бежал через парк, уже светлевший в темных своих деревах, словно, кто-то гнался за ним, и даже действительно мерещились ему бандиты и хулиганы, которые его сейчас остановят и прирежут. "Справедливо, справедливо",приговаривал он себе на бегу. И лишь выбежав из парка и столкнувшись с бессонным квартальным, в нерешительности посмотревшим на него: остановить или не остановить! - лишь тут словно споткнулся и перешел на шаг, трудно дыша. Из-за поворота, повизгивая, выехал ремонтный трамвай, это было Монахову по дороге, и, не ожидая от себя такой дерзости и прыти, Монахов улыбнулся милиционеру, подмигнул и вскочил на подножку трамвая. Милиционер погрозил кулаком - и все. Монахов ехал домой, и ему легчало. Его мотало на рассветном, выплывающем из пара мосту, и он радостно глядел на мир. И то, что могло показаться ему неудачным приключением, вдруг вполне устроило и даже обрадовало его и чуть ли не исполнило удовлетворения. "Какое счастье,думал он,- что ничего не произошло". Так ему нравилось то, что он не достиг сегодняшней столь владевшей им цели, что это случайное воздержание и неожиданная чистота чуть ли не начинала казаться ему собственной заслугой, побежденным искушением и подтверждением его высоких нравственных качеств. "Ничего не произошло, ничего не произошло",- повторял он себе, и лишь на мгновение мелькнуло в нем, что в этом "не" заключено что-то безнадежное и последнее, и нечем тут гордиться... но все быстро перешло на размышления, что же сказать матери, и ничего не шло на ум. "Я устал врать, не хочу",почти самодовольно думал тогда он, прибавляя и эту свою сейчас неспособность придумать оправдание к удавшемуся сегодня воздержанию. "Как бы я пошел в больницу, как бы посмотрел ей в глаза..." - удовлетворённо думал он. И довольство собой, своей женой, своей жизнью, которая, не получаясь и распадаясь каждый день, все-таки получается в сумме этих дней, наполняло его. "Надо бы все-таки что-то придумать",- снова подумал он, спрыгнув с трамвая. Тут уже было совсем близко до дому, и вдруг его осенило, что можно и не придумывать, а рассказать все как было. Почти все. А если бы было... "Я бы так не мог",- подумал он. "А что, может, я еще ей и позвоню... - думал он дальше, почти с легкостью, как под горку, и, придавая себе вид окончательной бодрости и наглости, поднимался по лестнице.- Может, мы еще и встретимся".
Пока он топтался у двери, доставая ключ, и лез им в замочную скважину, дверь распахнулась, и на пороге стояла растрепанная бессонная мать.
- Ты? - сказала она холодно.
- Я,- сказал Монахов потупляясь, и бодрость слетела с него.
Мать, пятясь, отступала в прихожую, и Монахов робко следовал за ней, нежно прикрывая за собой дверь, чтобы не шуметь. И боялся поднять глаза, зная взгляд, который был сейчас устремлен на него, его холодность и поджатость губ.
Мать перестала отступать, и Монахов замер перед ней.