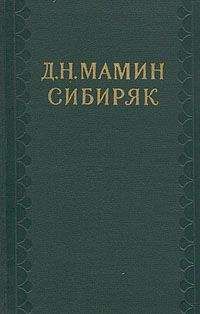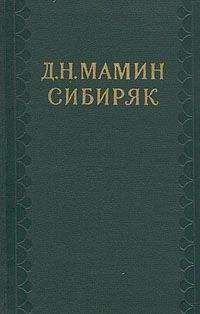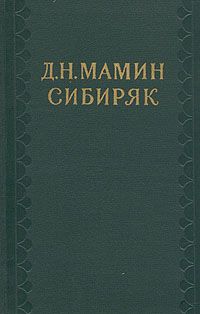— Экие бесстыжие глаза! — изумлялась Акулина Митревна. — И беспременно у него што-нибудь есть на уме… уж не таковский человек, штобы спроста! И одежонкой раздобылся, пес…
Действительно, Башка явился в сапогах, в калошах, в приличных брюках и даже в осеннем дипломате с чужого плеча. Медальон жался в одном пиджачке.
— А мы уж тебя утонувшим записали, — ехидно говорил Ванька Каин, выставляя приличную посудину. — Много тут спрашивали… Я еще пожалел, потому как и цвете лет и, можно сказать, без покаяния…
— Будет тебе огороды-то городить, — обрезал Башка. — Я вот тебе хорошего человека привел.
— Что же? Мы хорошим людям завсегда рады… Не с деньгами жить, а с добрыми людьми.
Медальон был подвергнут самой беспощадной критике и выдержал испытание. Его как-то сразу все полюбили; а Акулина Митревна сказала прямо, что «энтот как раз под пару подойдет Хохлику-то». Однако вечером, когда пьяный Башка принялся рассуждать с Медальоном о разных философских предметах, Ванька Каин заметил жене, что Медальон «далеко не вплоть» Хохлику-то, вон какие мудреные слова разговаривает. Даже Корнилыч, на что лют бобы-то разводить, и тот только глазами хлопает. А Башка действительно разговорился как-то необыкновенно и точно все заискивал перед новым своим другом, чем завсегдатаи были обижены еще раз.
— Есть целый разряд фактов, который совсем выходит из пределов обыкновенной логики, — философствовал Башка. — Например, общество не хочет знать нас и даже стыдится, а между тем мы самое наизаконнейшее явление… Даже можно сказать, мы правильнее смотрим на вещи, потому что, по теории утилитаризма, променяли фиктивные блага на более существенное, так сказать, мы пьем сок жизни, когда другие только приближаются к этому идеалу. Важно доработаться до философского миросозерцания, а с высоты его разные житейские невзгоды кажутся просто смешными.
— Совершенно верно! — соглашался Медальон, запуская тонкие руки в свои белокурые волосы. — Людям крайне тяжело расставаться с известными житейскими предрассудками, особенно теми из них, которые срослись с домашним обиходом… Только вот у нас в гимназии плохо проходили философию, и я не совсем понимаю некоторые твои рассуждения.
— Пустяки! Этот недостаток твоего воспитания мы пополним, — смеялся Башка, встряхивая своей гривой. — Знаешь, я человек откровенный и прямо тебе скажу, что крепко недолюбливаю ваше сухарное гимназическое образование… Ей-богу!.. Знаете вы много и порядочно знаете, а вот настоящего закалу в вас нет… этой философской выдержки. У нашего брата, бурсака, дубленые мозги-то… Ха-ха!.. Жизнь, братику, это мудреная история, если особенно взять не казовые концы и не ее парадную праздничную сторону, а настоящую суть. Везде противоречия… «Ввергохом злато в огонь, и излияся телец». Ха-ха!.. Это уж постоянно. «Злато» — это то, чем мы были до нашего воспитания, а «телец» получился уже в результате. Знаешь, я недавно шел ночью босиком в одной рубахе по грязи… холодище смертный, даже одеревенел весь, а в главизне разные латинские да греческие цитаты так и шевелятся: из Овидия, из Гомера, из Цицерона. Ведь получается жестокая, но поучительная ирония… Я хохотал, над собой хохотал. К чему? Зачем?.. Жизнь требует цельного человека, сильного умом и волей, а мы являемся на житейский пир, как попугаи, с двумя-тремя латинскими фразами. Я вот человеком-то себя чувствую только здесь, в «Плевне», и то постоянно сосет червь… Просто иногда пугает этот всеобщий разлад, частицу которого составляешь и сам своей особой. Вот Ванька Каин уравновешенная душа, потому что он безмерно глуп… из породы сумчатых и толстокожих, и, наверное, у него волосы растут прямо из мозгов.
Медальон говорил на эту же бесконечную тему, хотя во многом не мог согласиться с жестокой логикой Башки. Он сидел на своем стуле, болезненно согнувшись, точно все еще под ним была гимназическая парта, и нервно вздрагивал каждый раз, когда за стенами «Плевны» с визгом и завываниями поднимался режущий осенний ветер, метавшийся по городским улицам, как оглашенный. Стоял октябрь, земля уже покрылась промерзшей корой, и везде белел первый снег, которым так приятно любоваться из хороших теплых домов, когда в запасе есть теплая шуба. В «Плевне» в эту пору всегда бывает особенно много посетителей, потому что холод всех гонит к теплу.
— Экая у тебя жидкокостная и гнилая натуришка! — негодовал Башка каждый раз, когда у Медальона на улице зуб с зубом не сходился. — Ты смотри на меня: точно из подошвенной кожи сшит.
Раньше Башка ночевал вместе с другими завсегдатаями в задней каморке «Плевны» или по разным ночлежным притонам, а теперь к ночи обязательно исчезал в обществе Медальона.
— Это он к той шляется, — соображала «Плевна» и презрительно пожимала плечами. — А та небось боится сюда бесстыжие-то свои глаза показать.
Между тем Фигура лежала больная в своем подвале, куда Башка и Медальон приносили дрова и разный необходимый провиант, добываемый ими по всему городу. Башка был неузнаваем. Он сначала ненавидел Фигуру, потом помирился с ней, а теперь ухаживал за ней, как за ребенком, то есть ухаживал-таки опять по своему, по-бурсацки. Со стороны можно было подумать, что Башка хочет приколотить больную. Нo это не мешало ему просиживать над ней целые ночи, бесконечные осенние ночи, когда все кругом покоится мертвым сном и только ветер выводит дикие ноты в трубе. Башка привел к больной доктора, ему одному известными способами добывал лекарства, Башка приносил откуда-то дрова, Башка раздобылся матрацем и одеялом для больной; одним словом, он работал неутомимо и, кроме того, еще ухаживал за Медальоном, которого полюбил с первого раза. Фигура лежала на своем одре с закрытыми глазами и, кажется, не узнавала никого; по ночам она начинала тяжело метаться и глухо стонала. Башка обкладывал ее компрессами, измерял температуру, подавал лекарства и был очень доволен, что у него не остается ни минутки свободного времени. Иногда Башка приносил с собой бутылку водки и молча ее распивал в обществе Медальона, который делал всегда то, что делают другие. Особенно хорошо чувствовали себя друзья в те часы, когда топилась вечером печь и они могли сидеть перед ней в безмолвном созерцании, как настоящие философы. Пламя трещало так весело и разливало кругом такую благодатную теплоту.
— Странная вещь этот огонь, — задумчиво говорил Башка, глядя на переливы пламени. — Это стихийное начало, с одной стороны… с другой, символ очищения, прообраз домашнего очага, величайшее приобретение для ветхого человека и неутомимый работник для нового.
Медальон цитировал греческих и римских авторов, припоминая места, где говорили об огне, a Башка сидел и думал, думал, без конца, как думается только в осенние непроглядные ночи. Ни отца, ни матери он не помнил; они умерли разом в сорок восьмом холерном году. Дядя свез его восьми лет в бурсу, и с тех пор Башка жил своим умом. Много перенес он за двенадцать лет бурсацкой науки и холода, и голода, и всяких других напастей, и в конце концов выработался из него чистокровный семинарский «башка». Чем только он ни был, проходя через это бурсацкое чистилище: архиерейским исполатчиком, кадило- и свещевозжигателем, капоиархом, иподьяконом, архиерейским басом, потом служил в консистории, в акцизном ведомстве, при полиции, на золотых промыслах, в городской управе и т. д.
— Не сносить тебе головы, братец, — говорил Башке один старичок, семинарский профессор, — винта не хватает одного в мозгах… Очень уж ты башковат, своя сила одолит, да и гордости этой в тебе через меру.
Действительно, в голове у Башки недоставало какого-то винта. С блестящими способностями, с философской складкой ума, выносливый, изобретательный, он принимался за десятки специальностей, быстро делался общим любимцем, а потом так же быстро ссорился со всеми, бросал дело и уходил на улицу, которая всегда кормила и поила его. В минуты раздумья Башка сам сознавал, что пропадает ни за грош, но переломить себя не мог: его вечно грыз бес ненасытной гордости, точно какая скрытая зараза. Конечно, Башка страшно пил, пил с двенадцати лет, но что могла значить водка для его железной натуры? Он пил с тоски, которая неотступно сосала его. Даже успех не радовал его, а наводил уныние: он, который чувствовал в себе силу сдвинуть гору, должен был «ловить мышей», как выражался Башка. Сознание собственной силы и превосходства над окружающими сделало его несчастным, как и многое множество других талантливых русских выродков, кончивших роковым «общим знаменателем», как называл Башка кабак.
В жизни Башки был один ничем не объяснимый пробел: для него женщины почти не существовали, или, вернее, существовали, как печальная физиологическая необходимость. Радужный ореол, которым окружали женщину поэты всех стран и народов, для Башки был дребеденью и чепухой; он видел только баб, самый вздорный и ничего не стоящий народишко, который в природе служит только переходной формой и, как таковая, носит в себе все недостатки переходного существования. С физической стороны Башка относился к женщине брезгливо, с тем презрением, которое выработала в нем тяжелая практика; как философ, он их ненавидел, как ненавидит каторжник цепи даже на других. О любви и вообще нежных чувствах Башке не приходилось задумываться, и в нем жил какой-то подвижнический, почти аскетический дух. Не помня матери и не имея семьи, Башка вырос дикарем и частенько подумывал о монашестве.