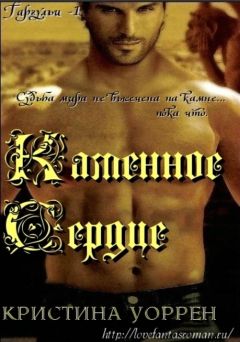6
Месяц прошел в непрерывных и тяжких трудах. Решено отдохнуть, мы едем гулять, как здесь говорят - пировать, в район города Дилижана. Дорога идет мимо Севана, через Семеновский перевал, к границе Азербайджана. В корзине бутылки, сырое баранье мясо, вчера Арутюн зарезал овечку. - Бейдный овечка, - тоненьким голосом сказал Мартиросян, инициатор убийства. На его совести сотни овечьих жизней, он любит шашлык. В багажник шофер Володя укладывает сухие дрова, шампуры - шашлычные рапиры. В маленький стеклянный автобус первыми садятся дамы - жена Мартиросяна Виолетта Минасовна, моя сопереводчица Гортензия; затем садятся Мартиросян, директор писательского дома творчества, бывший секретарь райкома Тигран и я. Дорога на Дилижан очень красива. Мы проехали по берегу Севана, мимо нас мелькнул ресторан "Минутка", но я не поглядел в его сторону. Машина пошла в гору. Как могуча, ужасна и добра сила привычки. К чему только люди не привыкают! Какая бездна лежит между первой ночью страсти и скрипучим разговором с женой о воспитании детей! Что общего между чудной встречей с морем и походом в душный полдень на морской берег за покупкой в киоске сувенира? Эту бездну создает привычка. В ее кажущейся монотонной неизменности - всесокрушающий динамит. Привычка уничтожает все - страсть, ненависть, горе, боль! Ничто не противостоит ей. И вот я привык к севанской форели, больше того - она надоела мне. Мы проезжаем через деревню, мальчишки стоят поперек шоссе и поднимают в воздух форелей. - Давайте купим форель, мы зажарим шашлык из нее, - говорит Мартиросян. Шашлык из форели - это новое, каток привычки не проехал по такому шашлыку. - Что ж, давайте купим форель. Володя, стой! Юные продавцы суют нам связки рыбы - тела мертвых княгинь все еще прекрасны, но глаза их слепы, рты полуоткрыты, искривлены гримасой смерти. - Почем? - спрашиваю я. - Двадцать пять рублей старыми деньгами кило, - переводят с армянского дамы. Мой вопрос носит теоретический характер, я гость и лишен права платить по ресторанному счету, за газированную воду, за яблоки, купленные на базаре, за билет в троллейбусе, за газету, за почтовую марку. Вначале это меня смущало, расстраивало, раздражало. Но беспредельна мощь привычки, и вот уже я привык к тому, что на улице мне никак не истратить ни рубля, ни пятака. Правда, иногда это безмятежное чувство покидает меня - не слишком ли быстро я приобрел эту странную привычку и почему она начала мне казаться приятной? У каменной стены сидят десятка три колхозников, большинство перебирает четки. После войны резко изменился облик армянской деревни: тысячелетние, древние, темные и тесные, вырытые и земле хижины, выложенные булыжником, почерневшим от кизячного дыма, исчезают, уходят, перестают существовать. Год от года число этих древних хижин все уменьшается. Во многих армянских деревнях они полностью исчезли. Их нет, а ведь были они неизменны на протяжении тысячелетий. Мы осматриваем новые, светлые колхозные дома, потом мы осматриваем старые дома - каменные продымленные норы с тондырами, вырытыми в земле. Нет сомнения, что новые, светлые дома лучше старых. Мы возвращаемся к машине. Колхозники окружают Мартиросяна, беседа идет оживленно. Потом Мартиросян говорит речь. Удивительно хорошо умеют слушать армянские крестьяне. С таким задумчивым выражением лица можно слушать проповедь апостола. Мартиросян подходит к машине, лицо его оживленно. Он говорит, что почти все его деревенские собеседники читали его роман, так вчитались в книгу, сроднились с ее героями, что просят автора изменить некоторые жестокие судьбы: потерявшему во время аварии две ноги вернуть одну ногу, просят оживить нескольких покойников. К нему обращаются, как к богу, всемогущему хозяину мира, в котором живут созданные им люди. Он хозяин их жизни и судьбы. Какое высокое чувство! Ведь это действительно счастье - люди, созданные тобой, стали частью любимого тобой народа. И как все же добр народ - он никогда не просит оторвать вторую ногу у того, кто стал одноногим калекой. Он не просит заменить орден Суворова, врученный полководцу, медалью "За боевые заслуги" или значком "Отличный повар". Он не просит бога взыскать с ответственного работника, который в метельную стужу и в знойной пыли, при лунном свете и при свете солнца изрекает истины, одни лишь истины. Да, народ великодушен, он просит у бога снисхождения и сострадания. Земные боги - писатели, художники, композиторы - создают мир по образу и подобию своему. Вот мир Хемингуэя. А вот мир Глеба Успенского. Ну конечно, они разные ведь Хемингуэй описывает людей, обожающих бой быков, экзотическую охоту, пишет испанских динамитчиков, рыбаков у берегов Кубы, а Успенский описывает тульскую пьяную мастеровщину, будочников, городовых, уездных мещан и деревенских баб. Но миры-то, миры создаются не по образу русской бабы и не по образу рокового красавца тореадора! Мир-то создан по образу и подобию Успенского и Хемингуэя. И вот это-то и особенно интересно - пусть Хемингуэй заселит свой мир русскими будочниками и в доску пьяными тульскими слесарями, мир будет тот же хемингуэевский. И все в нем - мокрые осины, грязные проселки, пыль, лужи, домишки, серое осеннее русское небо - будет хемингуэевским. И в пронзительно-тоскливом мире Глеба Ивановича Успенского пронзительно-тоскливым будет и синее небо Испании, и дивный красавчик тореадор, кушающий молодых угрей в чесночном соусе и прихлебывающий виноградное вино. До чего же несовершенны и слабы земные боги, создавшие мир по земному образу и подобию своему: Гомер, Бетховен, Рафаэль. Что за образ, что за подобие - вот синий, переложенный в краски душевный мир Рериха: все в нем однообразно синее - и горы, и люди, и снег, и деревья, и воробьи. А вот мир углов, квадратов: все в нем углы и квадраты - и девушки и цветы. А рядом чудной, кривой и косой мир Пикассо. А дальше странный мир спиралей, запятых, загогулин. А дальше туманный философский мир Пастернака. Вот миры многозначительных бессмыслиц, миры бессмысленных многозначительностей. Вот миры одержимых, - одни одержимы любовью, другие вином, третьи - войной, четвертые - беспрерывно и непроизвольно мыслят. А есть миры, созданные гениальными школьниками, они хотят воссоздать, дать в тиражах тот мир, что напечатан лишь в одном экземпляре. Это великие школьники - они пишут переложение мирового чуда, они художники-реалисты... Но все эти миры - миры живого образа и подобия! А ведь есть совсем иные боги, расторопные, услужающие, боги-официанты, боги "чего изволите". Их мир населен бумажными призраками, раскрашенными картонными и восковыми фигурами. Это мир фанеры, жести и папье-маше. Эти мыльно-пузырные миры всегда полны гармонии и света, целевые миры, в них все разумно. Но чьим подобием являются они? Вот в чем вопрос. Да, миры, которые создают боги пера, боги кисти и боги струны и клавиш по образу и подобию своему, полны несовершенств и неразумия, они недопечены, перекошены, перекривлены, они куцы, убоги, иногда смешны, в них идиотическая прелесть примитива и наивности, в них смешное глубокомыслие, кубиковый пафос добра, в них милая суета и восторг перед собственной утонченностью и красотой, в них слепота страдания, в них бессмысленная надежда, в них нудная монотонность одной краски, в них дурацкая ситцевая пестрота. И ведь удивительно и странно, но в самой безумной картине самого абстрактного субъективиста, создавшего нелепое соединение линии, точек, пятен, больше реализма, чем в гармоничных мирах, сработанных по конторскому заказу. Ведь странная, нелепая, безумная картина есть истинное выражение хотя бы одной живой человеческой души. А чью же живую душу выражает гармонический, полный натуральных подробностей, полный тучной пшеницы и дубрав мир, воздвигнутый по заказу? Совершенных миров не существует. Существуют лишь те смешные, странные, плачущие, поющие, усеченные и несовершенные вселенные, созданные богами кисти и струны, вложившими в свои создания грешную либо безгрешную кровь и душу свою. Вероятно, истинный господь, Саваоф, создатель мироздания, с усмешкой глядит на эти миры. Графоманы, сердясь на то, что их произведения отвергаются в редакциях журналов, обычно говорят: "Непонятно, почему моя рукопись не принята. Недавно сам главный редактор опубликовал свое создание, ей-богу, совершенная дрянь, никак не лучше моего романа". Именно таким способом, именно этими графоманскими доводами должны защищаться Гомер и Бах, Рембрандт и Достоевский от усмешки господа. Ведь не писатели и поэты, не композиторы создали душу Эйхмана, ледяной ад Антарктиды, тарантулов и кобр, бессмысленные провалы и бессмысленную жестокость космоса, раковые клетки, испепеляющую радиацию, малярийную топь, рядом с вечной мерзлотой - огненный песок Каракумов. Позволительно будет спросить у божественного насмешника: по чьему образу и подобию созданы Гитлер, Гиммлер? Люди не дали Эйхману души, они лишь сшили для него мундир обер-штурмбанфюрера. Много божьих созданий прикрыли наготу свою мундирами жандармских генералов, шелковыми рубахами палачей. Призовем к скромности творца, он создал мир сгоряча и, не работая над черновиками, сразу же отпечатал его. Сколько в нем противоречий, длиннот, опечаток, сюжетных неувязок, лишних персонажей! А мастера знают, как больно кроить, резать живую ткань сгоряча написанной и сгоряча изданной книги. И вот мы выезжаем из деревни.