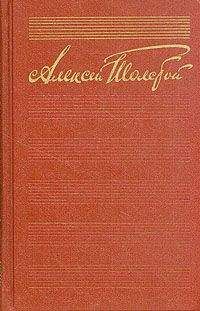Тепел, темен лес густой,
В нем бегут потоки,
Хочешь спи, а хочешь пой
Песенки далеки.
Ляг в траву, гляди в родник.
Иль в певучий дуй тростник,
Пой - приди, тоскую.
Нимфа белою рукой
Расплескает над тобой
Воду ключевую...
Чем дальше слушала Маша, тем непокорнее вздрагивало сердце и сжималось так, словно сочилось медом. Замолк за стеною голос, мамаша ушла спать, а она все еще представляла, как летают пчелы, шумят деревья над ключом, под ногой мнется мокрая трава. Подобного ничего не видала она в жизни, но тем чудеснее нравилось ей это представлять. Вдруг дверь отворилась, и в комнату вошел человек. Он был в цилиндре, с русой .бородой, суровый, застегнутый наглухо, тень падала ему на все лицо. "Вы меня звали, - сказал он, - я поэт". Маша не могла глядеть от стыда. "Я читала ваши стихи, и мне показалось на самом деле все это, о чем я вам говорила в телефон", проговорила она.
Он повертел серебряной палкой, потрогал в петлице гвоздику. "Что же, едем в Финляндию", - сказал он насмешливо. Маша, повинуясь, как во сне, зашла за раскрытую дверь шкафа, поспешно надела юбку, шляпу и жакет, взяла сумочку с пудрой и, нагнув голову, проговорила: "Хорошо, поедемте. Только не шумите в прихожей".
Они осторожно вышли, сбежали с седьмого этажа, сели в огромный автомобиль, и он довез их к последнему поезду. Они вскочили в купе. Поезд отошел, и Маша в первый раз, в страхе и сомнении, взглянула на спутника.
Перед ней, сняв цилиндр, сидел давешний рыжий незнакомец и ухмылялся, показывая белые зубы. Маша вскрикнула, но осталась сидеть в углу у окна, глядя исподлобья. Незнакомец дотронулся до ее колена пальцем, затопал ногами и громко захохотал. Поезд несся в тумане через леса, свистел диким свистом, мимо окна проносились огни. Маша молчала от страха и чудесного волнения. Она все еще думала, что перед ней поэт. Незнакомец между смехом рассказывал о проведенных днях в Петербурге, куда любил приезжать со своей дачи в туманные дни. В окутанном облаками городе он искал приключений и каждый раз уезжал не один.
Проехали границу, поезд подошел к Келомякам. Незнакомец взял Машу за руку и вывел из вагона. Все небо было усыпано ясными холодными звездами; светился, как серебро, Млечный Путь. Лес стоял темной стеной, и земля пахла опавшими листьями. Незнакомец подсадил Машу на финского извозчика, и они поехали между деревьями. Финн посвистывал. Незнакомец бородой касался Машиной щеки. Въехали в бор, нельзя было различить руки. Финн сказал "тпру", остановился, и когда седоки сошли, поплелся обратно, хрустя в темноте песком. Незнакомец повернул на тропинку...
Скоро под ногами стал подаваться упругий торф. Незнакомец взял Машу на руки. Она закрыла глаза и, чувствуя его теплоту, прижалась, охватила рунами за шею. Когда же он сказал: "Ну вот", она увидела на островке посреди болота освещенный звездами маленький дом. На крылечке сидела человеческая фигура. Подойдя, Маша увидела, что сидящий совсем раздет, покрыт густою шерстью и с козлиными ногами. "Не бойся, он не тронет", - сказал незнакомец и толкнул сидевшего в плечо, тот заржал и кинулся в кусты. "Я хочу домой", - сказала Маша, закрыв глаза. Но незнакомец, подталкивая за плечи, ввел ее в домик и проговорил строго: "Не жмурься, погляди". Маша увидела небольшую синюю комнату, на потолке и стенах в разных местах висело множество золотых тарелочек... Две свечи горели на окошке, но оно было фальшивое - вместо стекол вставлены зеркала. Пол гладкий, эмалевый, на нем нарисованы цветы и бабочки, в углу был брошен ковер, который Маша приняла за кучу сухих и пестрых листьев. "Милая Маша, - сказал незнакомец, - ты не должна ничего бояться. Я не поэт Юрий Бледный, я царь фавнов. Если не веришь, посмотри". Он живо сбросил с себя одежду и показался первый раз в своем виде - весь покрытый рыжей курчавой шерстью, с лакированными копытами и золотыми рогами. "Ты мне очень понравилась, - продолжал он, - я сделаю тебя моей женой. В третьем часу взойдет луна, мы побежим на озеро. Ты тоже думала, как и все, что нас больше нет. Но мы хитрее людей, мы живем между вас, обманываем, завлекаем, и те, кто не хотят подчиниться нам, погибают. Сними одежду, причеши волосы покрасивее, побудь одна, я скоро вернусь... О чем бы ты ни подумала, чего бы ни захотела - все это можешь увидеть, глядя в золотые тарелочки... Но, помни, не подходи к окну, не глядись в зеркало..." Погрозив пальцем, он ушел... Маша в отчаянии всплеснула руками... Она слышала, как в темноте, за стеной, бегали по кустам незнакомцы, фыркали или вдруг стучали копытами по крыльцу... "Я погибла, - подумала Маша, - не нужны мне ваши тарелочки, ни о чем не хочу мечтать, я боюсь... И в зеркало погляжу непременно..." На цыпочках она вошла в свет двух свечей и взглянула... В зеркале увидела она себя, свою комнату, убогую и дешевую лампу, раскрытую книгу на кушетке; дверь... Но дверь вдруг стала приотворяться... Пролез в нее давешний незнакомец, нахмуренный и злой, подошел и вдруг ладонями закрыл Маше глаза... Она, не противясь, запрокинула голову, ахнула и крепко сжала рот... Потом она услышала голос: "На этот раз я тебя пожалею, отпущу домой. Прощай". А дальше Маша не могла ничего припомнить. Когда она раскрыла глаза - в комнате было светло. Снизу, с улицы, громыхали ломовые. В прихожей мамаша Молина бранила нового жильца, который, не предупредив, исчез вместе с чемоданом рано поутру.
Маша так и не поняла - сон ли она видела, и если сон, то где он начинался? И всего больше удивлялась она тому, что во сне случилось с нею не бывающее в снах... И что случилось это - она была уверена, удивлялась и покачивала головой. Когда же настал опять туманный день, Маша заперлась на ключ, стала слушать шорохи, надеялась и трусила, как мышь.
ЛОГУТКА
Я помню ясно, хотя мне было семь лет в то время, как началась беда. Мать и отец стояли на балконе и серьезно глядели туда, где, обозначаясь на горизонте невысокими курганами, лежала степь с прямоугольниками хлебов.
За курганами на востоке стояла желтоватая мгла, не похожая ни на дым, ни на пыль.
Отец сказал: "Это - пыль из Азии", и мне стало страшно. Каждый день с этих пор мать и отец подолгу не уходили с балкона, и ежедневно мгла приближалась, становилась гуще, закрывала полнеба. Трудно было дышать, и солнце, едва поднявшись, уже висело над головой, красное, раскаленное.
Трава и посевы быстро сохли, в земле появились трещины, иссякающая вода по колодцам стала горько-соленой, и на курганах выступила соль.
Все, с чем я играл - деревья, заросли крапивы и лопухов, лужи с головастиками и тенистый пруд, - все высыхало теперь и горело. Мне было жутко и скучно...
В то время заехала к нам городская барышня погостить. Побежала в сад, увидела высокую копну, схватила меня и, так как я, присев, уперся, она упала в копну, предполагая, что это: "душистое сено, какая прелесть", и за воротник барышни, в уши, в волоса и глаза набилось колючей пылью пересохшее до горечи сено.
Разговоры становились все тревожнее; у крыльца появлялись мужики без шапок. Матушка в это время ходила по комнате, заложив руки за спину, все думала и думала, поправляя пенсне на шнурочке.
Наконец окончилось это долгое, как горячка, лето, и поздней осенью однажды подали к обеду черные щи. Матушка сняла крышку с чугуна, взглянула на отца:
- Больше ничего не будет.
- Поешь этих щей и запомни, - сказал мне отец, - что твои товарищи деревенские мальчишки - сейчас и этого не едят.
Мне стало жаль деревенских мальчиков, которые ничего не едят; отец же, катая хлебный шарик, дудел марш. Подудев, сказал:
- Но как помочь, не знаю.
Снег выпал поздно, потом растаял, и по вновь оголенной земле хватило гололедицей, погубив озимые. Но на льду пруда снег только подъело, он расплылся желтыми пятнами и подернулся коркой.
Я бегал по пруду, пуская стрелки и не видя против солнца, куда они упадут.
Запустив стрелу до плотины, я видел между ветел матушку; она шла в черной шубе и оренбургском платке, опустив голову.
Матушка очень задумалась, и мне стало жалко ее, такую родную и обыкновенную. Я окликнул. Матушка улыбнулась и протянула руку. Потом, взяв меня сзади за кушак, спросила рассеянно, по привычке:
- Ты о чем думал? - Потом: - Хочешь, пойдем со мной в деревню; помнишь Логутку, твоего товарища, он очень болен.
Мы взошли по застывшей дороге на изволок, откуда показалась растянутая по берегу реки деревня.
Серые избы стояли без крыш. Вместо них торчали трубы и стропила кое-где, словно после пожара; а позади на гумнах виднелись только плетни, канавы да голая ива.
У крайней избы стоял мужик, глядя на дорогу. Матушка его окликнула:
- Что, Николай, жива еще кобыла?
Мужик, держась за кушак, мотнул головой, повернулся и побрел на двор.
- Вон кобыла, - сказал он хриплым голосом и указал под навес, где, подтянутая на подпругах к перекладине, стояла каряя лошадь, опустив большую морду до копыт.