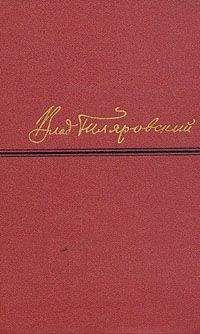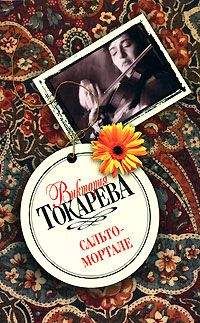Когда отец женился во второй раз, муштровала меня аристократическая родня мачехи, ее сестры, да какая-то баронесса Матильда Ивановна, с коричневым старым псом Жужу!.. В первый раз меня выпороли за то, что я, купив сусального золота, вызолотил и высеребрил Жужу такие места, которые у собак совершенно не принято золотить и серебрить.
* * *
Сидели все на балконе и пили кофе. Были гости. Матильда Ивановна, сухая, чопорная, в шелковой косынке, что-то вязала. Вдруг вбегает Жужу, на минутку садится, взвизгивает, вертится, поднимает ногу и тщетно старается слизнуть золото, а оно так и горит. Что тут было! Меня тетеньки поймали в саду, привели дворню и выпороли в беседке. Одна из тетенек, дева не первой свежести, собственноручно нарвала крапивы и велела ввязать ее в розги. Потом я ей за это жестоко отомстил. Стал к нам ездить офицер, за которого она вышла потом замуж. По вечерам они уходили в старую беседку, в ту самую, где меня пороли, и мирно беседовали вдвоем. Я проломал гнилую крышу у беседки утром, а вечером, когда они сидели на диване и объяснялись в любви я влез на соседний высокий забор и в эту дыру на крыше, прямо на голову влюбленных, высыпал целую корзину наловленных в пруде крупных жирных лягушек, штук сто! Визг тети и оранье испуганного храброго вояки-жениха, гордившегося медалью за усмирение Польши, я услышал уже из конца чужого сада. Мне за это ничего не было. Жених и невеста молчали об этом факте, и много лет спустя я, будучи уже самостоятельным, сознался тете, с которой подружился. Оказывается, что лягушки-то и устроили ее будущую счастливую семейную жизнь. Это был лягушечий период. Справа от нашего дома жил мальчик Костя. За то, что он фискалил и жаловался на меня, я посадил его в чан, где на дне была вода и куда я накидал полсотни лягушек. Конечно, Костя пожаловался, и я был сечен долго и больно. Это было требование отца Кости, старого бритого чиновника, ходившего в фризовой шинели и засаленном форменном картузе. Эту шинель потом я, в отместку за порку, всю разрисовал масляной охрой, все кругами, кругами. Догадывались, но уличить меня не смели. Для исполнения цели надо было рано утром влезть из сада в окно и в сенцах, где висела шинель, поработать над ней. Через неделю шинель поотчистили, но желтые круги все-таки были видны даже через улицу.
— Хорошенькие воспоминания детства: только одни шалости, а где же ученье?
— Извольте. Ученье? Да, собственно говоря, — ученья-то у меня было мало.
Молодой ум вечно кипел сомнениями. Учишь в законе божием, что кит проглотил пророка Иону, а в то же время учитель естественной истории Камбала рассказывает, что у кита такое маленькое горло, что он может глотать только мелкую рыбешку. Я к отцу Николаю.
Рассказываю.
— И выходишь ты дурак! И кто тебя учит этой ереси — тоже дурак выходит. Сказано: во чреве китове три дня и три нощи. А если еще будешь спрашивать глупости- в карцер. Написано в книге и учи. Что, глупее тебя, что ли, святые-то отцы, оболтус ты эдакий?
— А Камбала — тот свое.
— И сравнению не подлежит! Это обыкновенный кит, и он может только глотать малую рыбешку, а тот был кит другой, кит библейский — тот и пророка может. А ты, дурак, за неподобающие вопросы выйди из класса!
И в конце концов, иногда при круглых пятерках по предметам, стояло три с минусом за поведение. Да еще на грех стал я стихи писать. И немало пострадал за это…
В театр впервые я попал зимой 1865 года, и о театре до того времени не имел никакого понятия, разве кроме того, что читал афиши на стенах и заборах. Дома у нас никогда не говорили о театре и не посещали его, а мы, гимназисты первого класса, только дрались на кулачки и делали каверзы учителям и сторожу Онисиму.
В один прекрасный день я вернулся из гимназии, и тетя сказала мне:
— Сегодня я беру тебя в театр, у нас ложа, — и указала на огромный зеленый лист мягкой бумаги, висевший на стене, где я издали прочел:
— «Идиот».
А потом подошел и прочел всю афишу, буквы которой до сих пор горят у меня в памяти, как начертанные огненные слова на стене дворца Валтасара.
«Вологда. С дозволения начальства. Труппой известных артистов в бенефис Мельникова представлена будет трагедия в 5-ти действиях „Идиот, или Тайна Гейдельбергского замка“. Далее действующие лица, а затем и „Дон Ранудо де Калибрадос, или Что за честь, коли нечего есть“, при участии известного артиста Докучаева».
Вот только эти два лица и остались тогда в моей памяти, и с обоими из них я впоследствии не раз встречался и вспоминал то огромное впечатление, которое они на меня тогда произвели. И говорил мне тогда Мельников:
— Неудивительно, батенька! Такого Идиота, как я, вы не увидите. Нас только на всю Россию и есть два Идиота — я да Погонин.
Действительно, Идиот был коронной ролью того и другого. Мельников был знаменитость и Докучаев тоже.
* * *
Так вот какие две знаменитости того времени произвели на меня впечатление и заставили полюбить театр.
Когда мы пришли в зрительный зал, зажигали только еще свечи и лампы. Мы сидели в литерной бельэтажа, сбоку. Входила публика. В первый ряд прошел толстенный директор нашей гимназии И. И. Красов в форменном сюртуке, за ним петушком пробежал курчавый, как пудель, француз Ранси. Полицмейстер с огромными усами, какой-то генерал, похожий на Суворова, и мой отец стояли, прислонясь к загородке оркестра, и важно оглядывали публику, пока играла музыка, и потом все они сели в первом ряду… Вдруг поднялся занавес — и я обомлел. Грозные серые своды огромной тюрьмы, и по ней мечется с визгом и воем, иногда останавливаясь и воздевая руки к решетчатому окну, несчастный, бледный юноша, с волосами по плечам, с лицом мертвеца. У него ноги голые до колен, на нем грязная длинная женская рубашка с оборванным подолом и лохмотьями вместо коротких рукавов… И вот эта-то самая первая сцена особенно поразила меня, и я во все время учебного года носился во время перемен по классу, воздевая руки кверху, и играл Идиота, повторяя сцены по требованию товарищей. Это так интересовало класс, что многие, никогда не бывавшие в театре, пошли на «Идиота» и давали потом представление в классе. После окончания пьесы Мельникова вызывали без конца, и, когда еще раз вызвали его перед началом водевиля и он вышел в сюртуке, я успокоился, убедившись, что это он «только представлял нарочно». Окончательно же успокоился на водевиле и выучил распевать товарищей некоторые запомнившиеся куплеты:
Нужно поручительство, —
Где порук найти, —
Ваше покровительство
Может нас спасти…
И после «Идиота» в классе копировал Докучаева, передавая важность дон Ранудо… И это увлечение театром продолжалось до следующего учебного года, когда я увлекся цирком и ради сальто-морталей забыл Идиота и важного дон Ранудо.
Представление «Царь Максемьян» солдатами в казармах в 1866 году произвело на наших гимназистов впечатление неотразимое, и много фраз из этого произведения долго были ходячими, а некоторые сцены мы разыгрывали в антрактах. Представление это было всего только один раз, и гимназистов было человек десять, попавших на «Максемьяна» только благодаря тому, что они были или дети, или знакомые гарнизонных офицеров. Зато мы, то есть каждый из этого десятка, были героями дня в классе, и нас заставляли разыгрывать сцены и рассказывать о виденном и слышанном.
— Не подходи ко мне с отвагою, а то проколю тебя сею шпагою, — повторяли мы ежедневно и много лет при всяком удобном случае, причем шпагу изображала ручка или карандаш.
Из учителей останется в памяти у всех моих товарищей, которые еще есть в живых, учитель естественной истории Порфирий Леонидович, прозванный Камбалой.
Это был длинный, худой, косой и лопоухий субъект, при ходьбе качавшийся в обе стороны. Удивительный мечтатель. Он вечно витал в эмпиреях, а может быть, вечно был влюблен. Никогда не садился на кафедру. Ему сносили кресло к первой парте, где он и располагался. Сядет, обоймет журнал, закатит косые глаза в потолок и переносится в другой мир, как только ученик начнет отвечать. В мечтательном состоянии так и летели четверки и пятерки. Только надо было знать первые строки спрашиваемого урока, а там — барабань, что хочешь: он, уловив первые слова, уже ничего не слышит.
— Гиляровский. Выхожу.
— Собака!
— Собака, Порфирий Леонидович.
— Собака!
— Собака — Canis familiaris.
— Вер-рно!..
И закатит глаза.
— Собака — Canis familiaris. Достигает величины семи футов, покровы тела мохнатые, иногда может летать по воздуху, потому что окунь водится в речных болотах отдаленной Аравии, где съедает косточки кокосов, питающихся белугами или овчарками, волкодавами, бульдогами, догами, барбосками, моськами и канисами фамилиарисами…
Он прислушивается на момент.