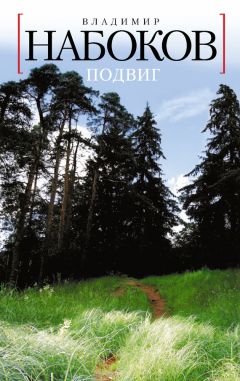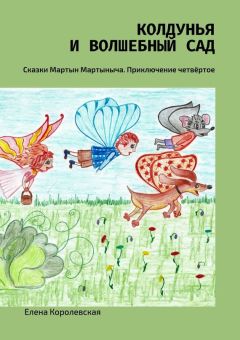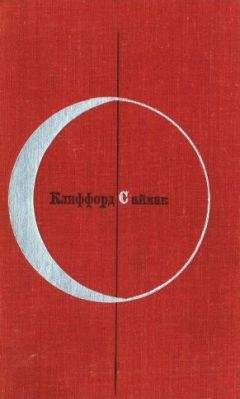Ей было двадцать пять лет, ее звали Аллой, она писала стихи, – три вещи, которые, казалось бы, не могут не сделать женщины пленительной. Ее любимыми поэтами были Поль Жеральди и Виктор Гофман; ее же собственные стихи, такие звучные, такие пряные, всегда обращались к мужчине на «вы» и сверкали красными, как кровь, рубинами. Одно из них недавно пользовалось чрезвычайным успехом в петербургском свете. Начиналось оно так:
На пурпуре шелков, под пологом ампирным,
Он всю меня ласкал, впиваясь ртом вампирным,
А завтра мы умрем, сгоревшие дотла,
Смешаются с песком красивые тела.
Дамы списывали его друг у дружки, его заучивали наизусть и декламировали, а один гардемарин даже написал на него музыку. Выйдя замуж в восемнадцать лет, она два года с лишним оставалась мужу верна, но мир кругом был насыщен рубиновым угаром греха, бритые, напористые мужчины назначали собственное самоубийство на семь часов вечера в четверг, на полночь в сочельник, на три часа утра под окнами, – эти даты путались, трудно было повсюду поспеть. По ней томился один из великих князей; в продолжение месяца докучал ей телефонными звонками Распутин. И она иногда говорила, что ее жизнь – только легкий дым папиросы «Режи», надушенной амброй.
Всего этого Мартын совершенно не понял. Стихами ее он был несколько озадачен. Когда он сказал, что Константинополь вовсе не аметистовый, Алла возразила, что он лишен поэтического воображения, и, по приезде в Афины, подарила ему «Песни Билитис», дешевое издание, иллюстрированное фигурами голых подростков, и читала ему вслух, выразительно произнося французские слова, под вечер, на Акрополе, на самом, так сказать, подходящем месте. В ее разговоре Мартыну главным образом нравилась влажная манера произносить букву «р», словно была не одна буква, а целая галерея, да еще с отражением в воде. И вместо всяких французских Билитис, петербургских белых, гитарных ночей, грешных сонетов в пять дактилических строф, он ухитрился найти в этой даме с трудно усваиваемым именем совсем другое, совсем другое. Знакомство, незаметно начавшееся на пароходе, продолжалось в Греции, на берегу моря, в одной из белых фалерских гостиниц. Софье Дмитриевне с сыном достался прескверный крохотный номер, – единственное окно выходило в пыльный двор, и там, на рассвете, со всякими мучительными приготовлениями, с предварительным похлопыванием крыл и другими звуками, хрипло и бодро начинал кричать молодой алектор. Мартын спал на твердой синей кушетке, кровать же Софьи Дмитриевны была узкая, шаткая, с ухабистым матрацем. Из насекомых жила в комнате только одна блоха, зато очень ловкая, прожорливая и совершенно неуловимая. Алла, которой посчастливилось устроиться в отличном номере с двумя кроватями, предложила взять Софью Дмитриевну к себе, а мужа перекинуть к Мартыну. Софья Дмитриевна, сказав несколько раз кряду: да что вы, да что вы, – охотно согласилась, и в тот же день состоялось перемещение. Черносвитов, большой, долговязый, мрачный, заполнил собой всю комнатку; его кровь, по-видимому, сразу отравила блоху, ибо она больше не появлялась; его вещи, – принадлежности для бритья, зеркальце с трещиной поперек, одеколон, кисточка, которую он всегда забывал сполоснуть и которая стояла весь день, проклеенная серой, остывшей пеной, на подоконнике, на столе, на стуле, – удручали Мартына, и особенно было тяжко по вечерам, когда, ложась спать, он принужден был очищать свою, Мартынову, кушетку от каких-то галстуков и нательных сеток. Раздеваясь, Черносвитов вяло почесывался, во все нёбо зевал; затем, поставив громадную, босую ногу на край стула и запустив пятерню в волосы, замирал в этой неудобной позе, – после чего медленно приходил опять в движение, заводил часы, ложился, долго, с кряхтением, уминал телом матрац. Через некоторое время, уже в темноте, раздавался его голос, всегда одна и та же фраза: «Главное, молодой человек, прошу вас не портить воздух». Бреясь по утрам, он неизменно говорил: «Мазь для лица „Прыщемор“. В вашем возрасте необходимо». Одеваясь, выбирая из носков предпочтительно те, в коих дырка приходилась не на пятку, а на большой палец, – залог невидимости, – он восклицал: «Эх, были когда-то и мы рысаками», и посвистывал сквозь зубы. Все это было очень однообразно и не смешно. Мартын вежливо улыбался.
Некоторым утешением, однако, служило сознание риска. В любую ночь могло случиться, что в предательском сне он отчетливо назовет полногласное имя, в любую ночь доведенный до крайности муж мог подкрасться с наточенной бритвой. Черносвитов, впрочем, употреблял безопасную бритву: с этим снарядиком он обращался так же неряшливо, как с кисточкой, и в пепельнице всегда лежал ржавый клинок с окаменевшей каемкой пены, черноватой от волосков. Его мрачность, его плоские поговорки мнились Мартыну доказательством глубокой, но сдержанной ревности. На весь день уезжая по делам в Афины, он не мог не подозревать, что его жена проводит время наедине с тем добродушным, спокойным, но видавшим виды молодым человеком, каким воображал себя Мартын.
Было очень тепло, очень пыльно. В кофейнях подавали крохотную чашку со сладкой черной бурдой в придачу к огромному стакану ледяной воды. На заборах вдоль пляжа трепались афиши с именем русской певицы. Электрический поезд, шедший в Афины, наполнял праздный голубой день легким гулом, и все стихало опять. Сонные домишки Афин напоминали баварский городок. Желтые горы вдали были чудесны. На Акрополе, среди мраморного мусора, дрожали на ветру бледные маки. Прямо среди улицы, как будто невзначай, начинались рельсы, стояли вагоны дачных поездов. В садах зрели апельсины. На пустыре великолепно росло несколько колонн; одна из них упала и сломалась в трех местах. Все это желтое, мраморное, разбитое уже переходило в ведение природы. Та же судьба ожидала в будущем новую до поры до времени гостиницу, где жил Мартын.
И, стоя с Аллой на взморье, он с холодком восторга говорил себе, что находится в далеком, прекрасном краю, – какая приправа к влюбленности, какое блаженство стоять на ветру рядом со смеющейся растрепанной женщиной: яркую юбку то швырял, то прижимал ей к коленям ветер, наполнявший когда-то парус Улисса. Однажды, блуждая с Мартыном по неровным пескам, она оступилась, Мартын ее поддержал, она поглядела через плечо на высоко поднятую каблуком вверх подошву, пошла, оступилась снова, и он, наконец решившись, впился в ее полураскрытые губы и во время этого долгого, не очень ловкого объятия едва не потерял равновесия, она тоже пошатнулась, высвободилась и со смехом сказала, что он целуется слишком мокро, надо подучиться. Мартын ощущал в ногах возмутительную дрожь, сердце колотилось, он злился на себя за это волнение, напоминавшее минуту после школьной потасовки, когда товарищи восклицали: «Фу, как ты побледнел!» Но первый в его жизни поцелуй – зажмуренный, глубокий, с каким-то тонким трепыханием на дне, происхождение которого он не сразу понял, был так хорош, так щедро отвечал на предчувствия, что недовольство собой вскоре развеялось, и пустынный ветреный день прошел в повторениях и улучшениях поцелуя, а вечером Мартын был совершенно разбит, словно таскал бревна. Когда же Алла в сопровождении мужа вошла в столовую, где он и мать уже чистили апельсины, села за соседний столик, проворно развернула конус салфетки и, с легким взлетом рук, уронила ее к себе на колени, после чего придвинулась со стулом, – Мартын медленно запунцовел и долго не решался встретиться с нею глазами, а когда наконец встретился, то в ее взгляде не нашел ответного смущения.
Жадное, необузданное воображение Мартына не могло бы ладить с целомудрием. Мартын не совсем был чист. Мысли, кои зовутся «дурными», донимали его в течение последних двух-трех лет, и он им не очень противился. Вначале они жили отдельно от его ранней влюбчивости. Когда, в памятную петербургскую зиму, он, после домашнего спектакля, накрашенный, с подведенными бровями, в белой косоворотке, заперся в чулане вдвоем с однолеткой-кузиной, тоже накрашенной, в платочке до бровей, и смотрел на нее, жал ей сырые ладошки, Мартын живо чувствовал романтичность своего поведения, но возбужден им не был. Майн-Ридов герой, Морис Джеральд, остановив коня бок о бок с конем Луизы, обнял белокурую креолку за гибкий стан, и автор от себя восклицал: «Что может сравниться с таким лобзанием?» Подобные вещи уже куда больше волновали Мартына. И вообще – все несколько отдаленное, заповедное, достаточно расплывчатое, чтобы дать мечте работу по выяснению подробностей, – будь то портрет леди Гамильтон или бормотание пучеглазого однокашника о развратных домах, – особенно поражало его воображение. Теперь же туман редел, видимость улучшалась. Слишком поглощенный этим, он пренебрегал подлинными словами Аллы: «Я останусь для тебя сказкой. Я безумно чувственная. Ты меня никогда не забудешь, как, знаешь, забывают какой-нибудь прочитанный старый роман. И не надо, не надо рассказывать обо мне твоим будущим любовницам».