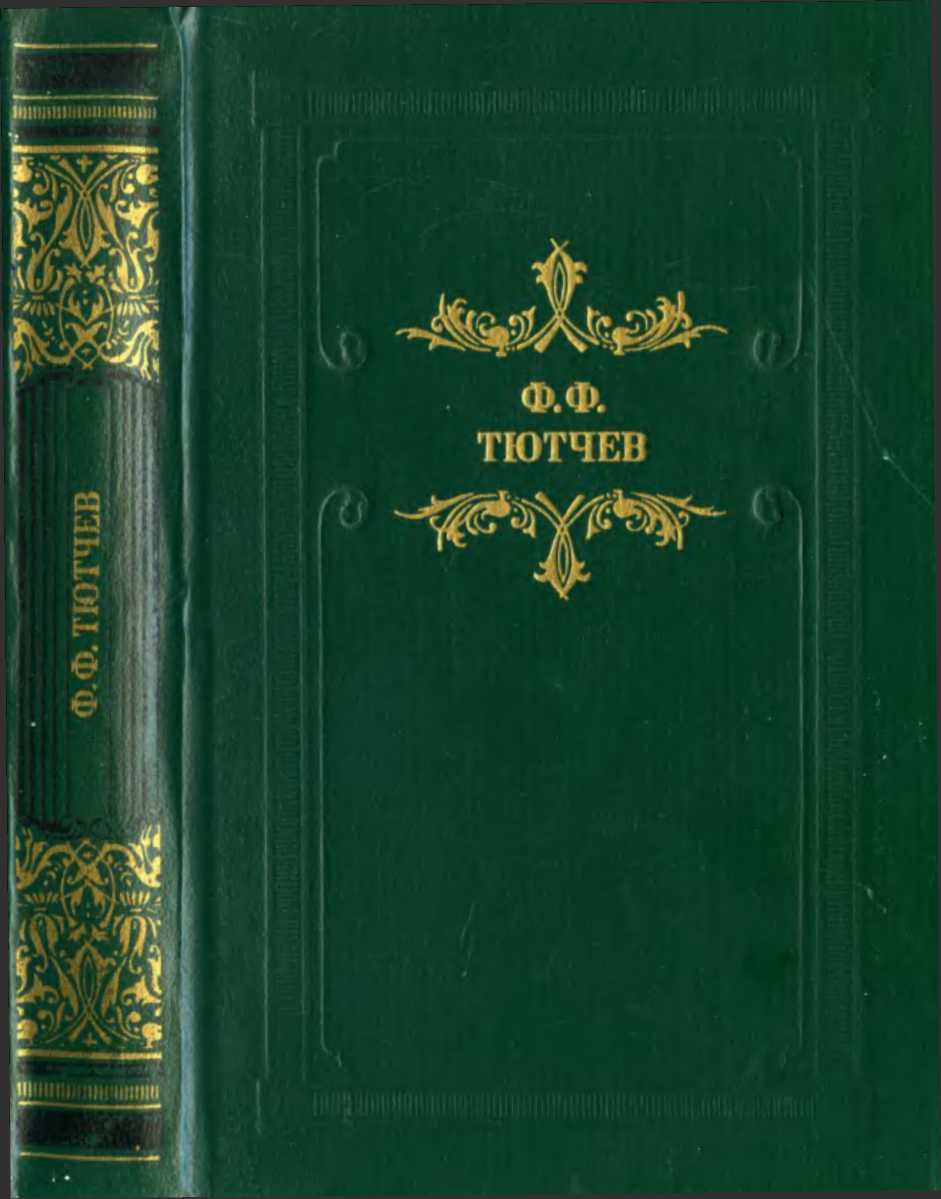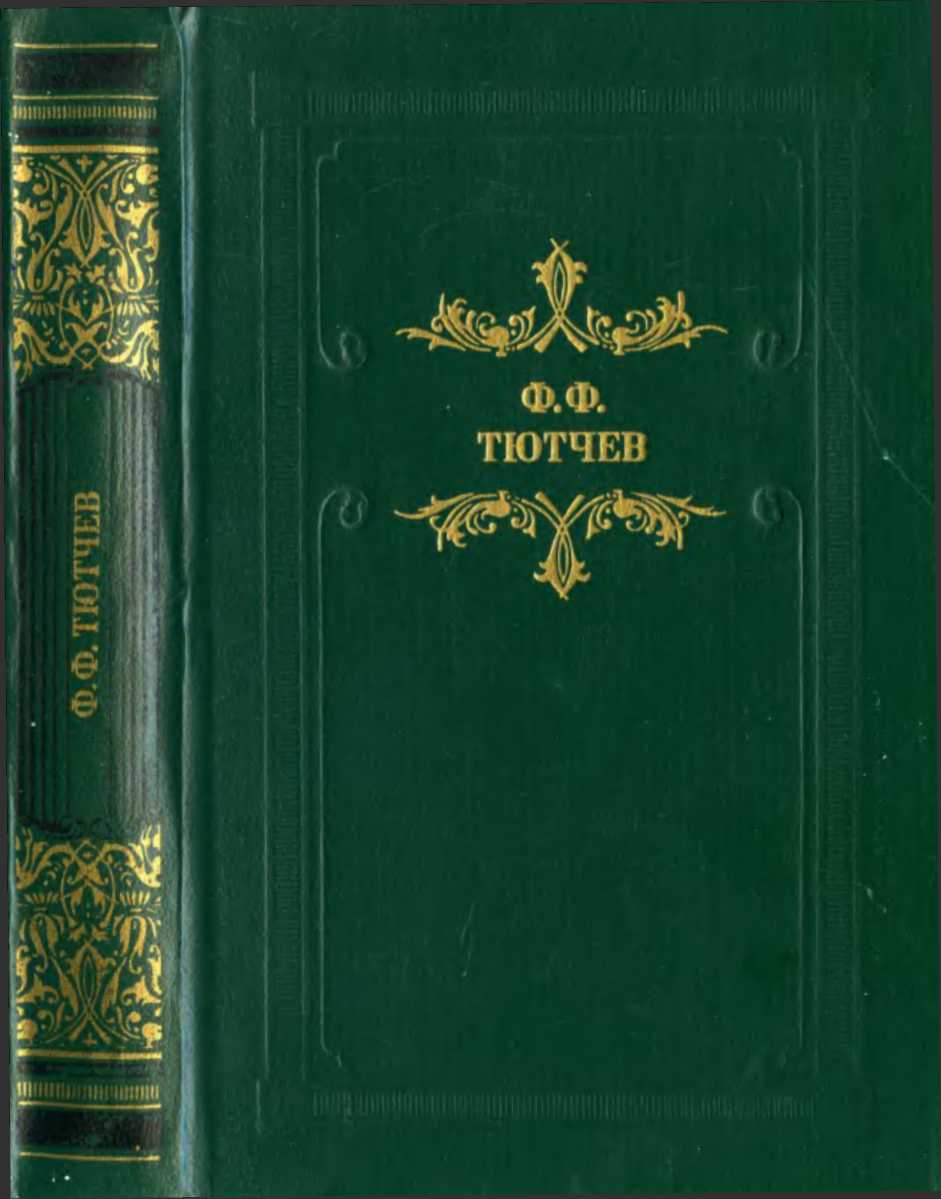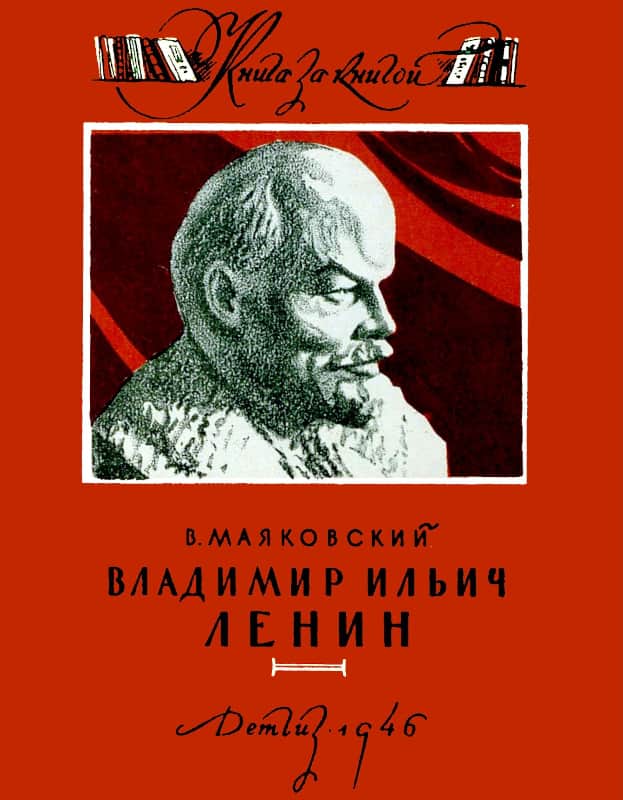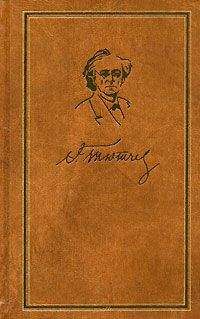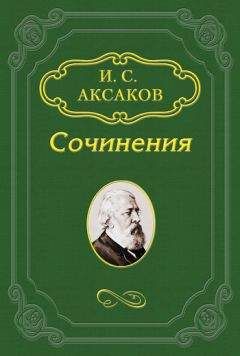другая какая история с ним приключится, словом, по выражению одного нашего товарища, «не сносить ему головы». Застрелился он у себя на посту «Твердови-цы». Я один из первых узнал о его смерти и поспешил приехать взглянуть на него. Чуев лежал у себя в квартире на постели и, казалось, спал, так спокойно было его лицо. Стрелял он себе в сердце, чтобы не испортить лица. Месяца за два до смерти он говорил: «Если я когда буду стреляться, то не иначе как в сердце, — в голову страшно, еще череп разнесет, безобразие выйдет».
По рассказам денщика, самоубийство произошло при следующих обстоятельствах.
В день смерти Чуев встал довольно рано и с особенной заботливостью принялся за свой туалет: принял ванну, надушился, надел все свежее белье... Я думал, их благородие куда в гости едут — пояснял денщик, а оно вона что вышло?!
Приготовив себя таким образом, Чуев приказал убрать комнату, а сам снова лег.
— Убрал это я комнату,— рассказывал денщик,—и пошел на кухню самовар ставить, не успел это я воды налить, вдруг слышу «трах», выстрел из комнаты их благородия и запах пошел такой пороховой, меня словно что под сердце вдарило, бросился я туда, гляжу, их благородие, запрокинувшись навзничь, на постели лежат, а сами словно бересточка на огне коробятся, не успел я опамятоваться, а они уже и вытянулись, значит — дух вон!
Когда самоубийцу снимали с постели, под подушкой в головах нашли конверт с надписью: «Полковнику N в собственные руки». В конверте этом лежало письмо, в котором Чуев просил, если можно, не анатомировать его. «Я умираю,— писал он,— в полном рассудке и здравой памяти, умираю, потому что не вижу надобности жить, если меня и будут анатомировать, то все равно нового ничего не узнают, стало быть, и резать нет нужды». Далее в письме выписан был список мелких его долгов и просьба, как распорядиться с его небольшим имуществом. В заключение стоял адрес родственников Чуева, у которых воспитывались его две дочери. Чуев был вдовец. Жена его умерла год тому назад, и как мы тогда думали, смерть эта и была причиной его самоубийства, но это было не совсем так. Чуев застрелился не столько оттого, что скучал по жене, сколько прямо в силу убеждения, что не видел надобности жить. Да если рассуждать здраво, он был по-своему прав. Чуев принадлежал к категории тех людей, к которым так идет эпитет «лишний». Да, он действительно был человек вполне лишний, пятая спица в колеснице, и это рельефнее всего выразилось на его похоронах. Несмотря на то, что он был в самых лучших, можно сказать дружественных, отношениях со всем остальным нашим офицерством, что за все свое двухлетнее пребывание у нас я не помню, чтобы он с кем-нибудь не только поссорился, но даже крупно поговорил или сказал кому какое обидное слово, за что все считали его «добрым малым»,— его особенно никто не пожалел. Врагов у него не было, но не было и друзей. Даже я, бывший с ним ближе всех и, казалось, любивший его, даже я не грустил по нем. А почему? Бог его ведает. А ведь в сущности он был человек довольно симпатичный, не глупый и по-своему даже оригинальный, только никому не нужный, ни на что серьезное непригодный; его отсутствие из нашей среды даже не было замечено, словно бы его никогда и не было.
Дней пять спустя после его похорон вздумалось мне как-то заехать на пост «Твердовицы». Признаюсь, меня тянуло взглянуть еще раз на квартиру Чуева, посидеть в комнате, в которой мы еще так недавно сидели с ним вдвоем, словно бы я боялся, что уже очень скоро, непозволительно скоро для друга, каковым я считался, я забуду его, и мне хотелось свежими впечатлениями подогреть свою память. В квартире я застал все так же, как и было: кровать стояла на том же месте, так же висели по стенам портреты, которых у Чуева было множество, седло на деревянном козелке под шерстяной попоной ютилось в углу, полочка с книгами, нагайка и хлысты на гвоздиках — словом, точно Чуев толь ко что вышел; только обильное присутствие пыли на письменном столе, да мертвенный холод долго нетопленной комнаты давали знать, что квартира необитаема.
Я постоял несколько минут и уже собирался уходить, как вдруг взгляд мой упал на нижнюю полочку этажерки. Она была пуста, только какая-то толстая тетрадь в четвертку листа небрежно валялась на ней.
Денщик Чуева, отворивший мне и все время почтительно стоявший у дверей и по солдатской привычке не спускавший с меня глаз, должно быть, по направлению моего взгляда догадался, что я обратил внимание на лежащую тетрадь, и счел нужным вставить свое замечание.
— Это, ваше б-ие, я третьего дня под кроватью нашел, за чемодан завалилась, должно, как читали вечером, накануне того самого дня, задремали и уронили, так она и лежала.
Это сообщение заинтересовало меня. Я взял тетрадь и развернул ее.
— Значит, он читал ее перед смертью? — спросил я
— Так точно, последнюю неделю, почитай, каждый вечер, как лягут, возьмут ее в руки и читают, а сами нет-нет да карандашиком и черкнут в ней или встанут, подойдут к столу и начнут писать.
«Это любопытно, — подумал я, пробегая глазами страницы, мелко исписанные угловатым, некрасивым, но довольно разборчивым почерком,— уж не последний ли его роман, о котором он мне говорил, наверно, так».
Чуев, до поступления к нам, лет пять занимался литературой. Заправским писателем он, правда, никогда не был и, к чести его нужно сказать, никогда таковым себя и не считал и гораздо больше гордился и интересовался своей посадкой и тем, что мог сесть на самую бешеную лошадь, чем небольшим изданием своих стихотворений и прозы, которые, впрочем, в свое время произвели кое-какое впечатление и в которых даже некоторые чересчур увлекающиеся критики провидели что-то новое, выдающееся. Во всяком случае, Чуев не был только дилетант, пишущий для кузин и дам сердца, а был хоть мало, но известен публике и редакциям. Словом, представлял из себя Литературную единицу. Немудрено, что меня очень заинтересовала его, так сказать, «Лебединая песня». Я объявил денщику, что беру тетрадь с собою, на что он мне отвечал обыкновенным «Слушаюсь, ваше б-ие», и, не теряя времени, поехал домой.
Оказалось, я несколько ошибся, это не был роман, а скорее биография, и то неполная, касающаяся последних лет жизни Чуева. Биография эта показалась мне настолько интересной, что я