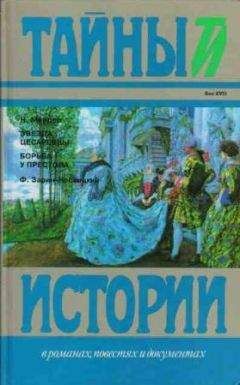XXIII
Рано утром Макшеев явился с рапортом к фельдмаршалу Михаилу Михайловичу. Фельдмаршал внимательно выслушал его, и по его грозно сдвинутым бровям Макшеев понял, что он недоволен приездом таких гостей.
Фельдмаршал поблагодарил его и отпустил. Макшеер радостно помчался домой, мечтая о теплой постели. А Михаил Михайлович поспешил в Верховный совет на очередное заседание.
В то же утро Густав Левенвольде посетил Остермана. По обыкновению, ему сказали, что вице – канцлер серьезно болен и никого не принимает. Его встретил Розенберг. Но Густав попросил передать барону несколько слов, которые тут же написал на клочке бумаги. Эти несколько слав были: «Густав просит господина барона принять его».
Розенберг был немало удивлен, когда Остерман с не? обычным оживлением, бодрым и энергичным голосом приказал немедленно проводить в кабинет гостя. Свидание наедине продолжалось часа два. Розенберг был удален.
Густав уехал, как всегда, внешне спокойный и холодный, а Остерман после его ухода позвал Розенберга и жену и заявил, что ему хуже. Его уложили в постель. Старик стонал при каждом движении и казался совсем умирающим.
Во дворце был назначен малый прием. Императрица знакомилась со своими подданными. Приехавшие в Москву чины генералитета, богатые помещики, вице – президенты коллегий добивались чести быть ей представленными.
Как обер – гофмаршал, Рейнгольд накануне докладывал ей список лиц, всеподданнейше ходатайствующих об аудиенции.
Императрица равнодушно проглядывала список. Но вдруг ее апатичное, вялое лицо оживилось.
– Граф, – воскликнула она. – Что ж ты молчал! Приехали твой брат, барон Оттомар, граф Кройц. Когда они приехали?
– Сегодня утром у меня был брат, – ответил Рейнгольд. – Он приехал во главе депутации ландратов принести вашему величеству всеподданнейшие поздравления с восшествием на прародительский престол и ходатайствовать о подтверждении лифляндских привилегий.
Императрица взволнованно встала с места. Тысячи воспоминаний теснились в ее сердце.
– Конечно, – воскликнула она, – я завтра приму их. Скажи своему брату, что он – желанный гость. Он приехал оттуда… Что там? Как живут там мои друзья? – в волнении говорила Анна.
– Ваши курляндские подданные, радуясь вашему великому жребию, ваше величество, оплакивают свою участь, так как лишены счастья лицезреть вас, – ответил Рейнгольд.
– Завтра, завтра, – повторяла Анна, глубоко взволнованная. – Пусть депутация непременно будет завтра. Я хочу скорее видеть их…
Рейнгольд поклонился.
Анна сидела в тронном кресле. У ступеней трона стояли ее фрейлины и статс – дамы. По бокам тронного возвышения поместился почетный караул в составе кавалергардов и нескольких офицеров лейб – регимента, среди которых был вновь назначенный в полк Артур Вессендорф.
Депутация медленно приблизилась к трону.
Юлиана не знала, что сегодня увидит своего отца. Старый барон не мог известить ее о своем приезде, а другим не было дела до маленькой Юлианы. Она чуть не вскрикнула, когда вдруг узнала высокую фигуру отца. Она сделала движение броситься к отцу, но Адель вовремя схватила ее за руку.
– Я счастлива видеть при нашем дворе моих друзей, – раздался взволнованный голос императрицы.
Члены депутации низко поклонились, и Густав своим ровным, спокойным голосом ответил:
– Мы прибыли, всемилостивейшая государыня, повергнуть к подножию вашего трона чувства преданности, одушевляющей вашу Курляндию, и просить милостивого внимания вашего величества…
И Густав изложил ей ходатайство ландратов. Императрица поблагодарила депутацию за приветствие и прибавила:
– Все будет сделано по вашему желанию.
Она милостиво протянула руку. Поднявшись на ступени трона, Густав преклонил колено и поцеловал руку императрицы.
Рейнгольд наблюдал за братом и императрицей и думал:
«Какая ловкая бестия Густав, как он спокоен, как рада императрица! Она, очевидно, сгорает нетерпением получить сведения о ее возлюбленном Бироне… Что‑то будет дальше?»
Действительно, Анна имела наготове тысячу вопросов, но не могла предложить их сейчас. Приказать Густаву явиться к ней после общей аудиенции она боялась. Она боялась недовольства Василия Лукича и других членов совета, не желавших, чтобы она поддерживала сношения со своим прежним двором. Ее взгляд упал на взволнованное личико Юлианы, и ее осенила мысль.
– Барон, – обратилась она к Оттомару. – Я вижу ваше отцовское нетерпение, я разрешаю вам обнять вашу дочь.
Старый барон покраснел, а Юлиана сделала ему шаг навстречу.
Не давая воли своему сердцу, барон сдержанно поцеловал дочь и глубоко поклонился императрице.
– Вы сегодня же можете навестить свою дочь, – милостиво произнесла императрица.
Это был способ получить все желаемые сведения. Кроме того, императрица чего‑то смутно ждала. Ей казалось, что умный и дальновидный Густав недаром, не просто как депутат приехал сюда.
По окончании аудиенции барон, пользуясь разрешением императрицы, прошел к дочери через целый лабиринт дворцовых зал и коридоров. Он очень нежно и заботливо расспрашивал Юлиану об ее жизни и здоровье, обратил внимание на то, что она похудела и побледнела, но Юлиана успокоила его, сказав, что она очень устала; она все время при императрице, а теперь каждый день даются такие же, как сегодня, аудиенции. И скучно и утомительно, так как приходится подолгу стоять.
Барон, успокоившись насчет дочери, видимо, был занят какой‑то мыслью. Он с любопытством осматривал покои фрейлин. Юлиана повела его по всем комнатам.
– Так ваши комнаты имеют прямое сообщение с покоями императрицы? – с любопытством спросил барон.
Юлиана объяснила. Вот тут зала, из нее длинный коридор ведет в гардеробную императрицы, дальше находится помещение Анфисы, потом пустая комната, а за нею кабинет государыни.
Помещение фрейлин состояло из трех комнат: общей спальни, столовой и гостиной. Горничные жили внизу. Из столовой тоже вел коридор, упирающийся в помещение Артура. У Артура было две комнаты. Это крыло дворца имело со двора свой маленький особый подъезд. «Так что Артур может возвращаться когда угодно, и этого никто не узнает», – смеясь пояснила Ад ель.
Барон очень внимательно выслушал эти сообщения.
Ему не удалось долго посидеть у дочери: за ним прислала императрица.
– Я зайду к тебе, Юлиана, вечером, – сказал он, целуя дочь. – Это, может быть, будет очень поздно, но я прошу тебя не ложиться спать и ждать меня. Непременно, Юлиана, – выразительно добавил он.
Хотя Юлиана и была несколько удивлена словами отца, но, смеясь, ответила:
– О, мы всю ночь будем ждать тебя, отец. Ведь правда, Адель?
– Барон может быть спокоен, – подтвердила Адель, делая барону низкий реверанс. – Я не дам Юлиане спать.
– Не засни сама, – отозвалась Юлиана.
Барон еще раз поцеловал дочь, пожал руку Адели и поспешил к императрице.
– Боже, Боже, что вы со мною делаете! – в отчаянии восклицал Бирон, как безумный бегая по комнате. – Да будет проклята эта страна! Я не могу, я не могу, Густав! – твердил он, останавливаясь перед Левенвольде и складывая на груди руки.
Его красивое лицо было теперь почти безобразно, искаженное отчаянием и ужасом. Светлые глаза с нерасширяющимися зрачками совсем выкатились из орбит и имели дикое, бессмысленное выражение.
– Если бы тебя сейчас увидела императрица, – холодно произнес Густав, – твоя карьера была бы кончена раз и навсегда.
– Пусть бы лучше она никогда не видела меня! – воскликнул Бирон, хватаясь за голову.
– Оно, конечно, было бы лучше, – пренебрежительно ответил Густав. – Ты бы занялся своим любимым делом: объезжал бы лошадей курляндских баронов, и тебя хлестали бы, как лошадь. Ты, кажется, рожден для этого.
Последние слова Густава, словно удар кнута, подействовали на Бирона.
– Делай, что хочешь, – сказал он, бледнея от обиды и ужаса.
– Так‑то лучше, – спокойно произнес Густав. – Значит, идешь?..
– Хоть к черту на рога! – закричал в исступлении Бирон. – Вы вовлекли меня в адскую западню! Вы играете мною! Мне нет спасения! Ни туда ни сюда! Будьте вы прокляты!..
– Ты совсем сошел с ума, Эрнст, – холодно сказал Густав. – В тебе нет даже простого достоинства мужчины. – Он с нескрываемым презрением смотрел на Бирона. Одушевляясь, продолжал: – За тобой темное, жалкое прошлое, твое настоящее ничтожно, а в будущем неизмеримое могущество, царственные почести, богатство, всеобщее преклонение, и ради такой ставки ты боишься рискнуть только своей красивой головой, жалкий человек! Да я не одной, а двадцатью жизнями рискнул бы, если бы имел их в запасе!