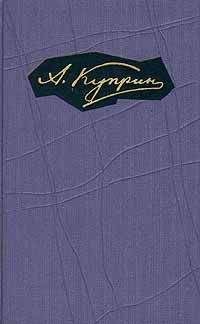Вдали показалось громадное серое здание анатомического театра. По дороге начали Борису попадаться студенты. Они шли туда же кучками по три, по четыре человека, с книгами под мышками. С некоторыми Борис был знаком и издали раскланялся. Один из студентов, Затонский, трудолюбивый и скромный молодой человек, отделился от своих товарищей и догнал Бориса.
— Здравствуйте, Полубояринов, — сказал Затонский, задыхаясь от быстрой ходьбы. — Вы знаете, что мы с вами в одной партии?
— Да, благодарю вас. — Борис пожал ему руку и, видя, что Затонский хочет уйти, задержал его и добавил: — Пожалуйста, пойдемте вместе. Вы знаете, я ведь в первый раз, так не согласитесь ли вы быть моим Вергилием?
— С удовольствием, — отвечал Затонский, широко улыбаясь. — Мне самому в первый-то раз жутко было.
Но Борис не хотел признаться в своей нерешительности.
— Мне не то чтобы жутко, — сказал он, — а просто я не знаю, куда там нужно идти, что делать, как держать инструмент.
— Э, пустяки! Вам и резать-то ничего не придется. Так, сначала только посмотрите, пока не привыкнете.
III
Они вместе вошли в шинельную и разделись. Борису казалось, что он уже отсюда слышит тяжелый, гнилой запах. Он вздрогнул от какого-то ощущения, похожего на холод, и — странно — после этого уже никак не мог согреться и все дрожал мелкой нервной дрожью.
— Что вы такой бледный, Полубояринов? — окликнул его студент, товарищ Бориса по гимназии. — Не выспались?
В шинельной было тесно и шумно. Одни приходили, другие уходили; дверь поминутно открывалась и закрывалась, впуская каждый раз резкую холодную струю воздуха. Между молодыми, свежими, словно девическими лицами мелькали серьезные, бородатые физиономии студентов последнего курса. Эти пользовались правом носить штатское платье, и молодежь относилась к ним с оттенком некоторого почтения.
Полубояринов и Затонский из шинельной прошли в длинную анатомическую залу, освещенную с обеих сторон высокими окнами; целый поток яркого света лился сверху из громадного стеклянного купола. Вдоль обеих стен и посредине, саженях в двух один от другого, стояли три длинных ряда высоких столов, сверху обитых цинком. Затонский, в качестве опытного человека, давал пояснения.
— Видите по диагоналям желобки? — говорил он, указывая на поверхность одного незанятого столика. — Это — для стока всяких жидкостей. А посредине отверстие и трубка, проведенная внутрь стола. Вот поглядите. — Затонский выдвинул сбоку стола ящик, обитый изнутри металлом, — В этот ящик все и стекает. Цинковые столы — самые лучшие. Мраморные, пожалуй, и чище, но зато скользят: руку упереть негде. А всего хуже работать на деревянных — те прямо насквозь пропитываются.
Они шли дальше. Запах становился все гуще, тяжелее и невыносимее. Борису казалось, что он весь пропитывается этим ужасным запахом; голова его слегка кружилась от непривычки. Вокруг одного стола столпились кучкой студенты, и в просветах между их черными сюртуками Борис с содроганием замечал желтое оголенное тело. Он подошел ближе. На столе лицом вниз, весь голый и — что показалось всего ужаснее Борису — без подстилки («точно вещь какая», — подумал он) лежал плотный мужчина с синей шеей и приподнятыми плечами. Борису особенно бросились в глаза руки трупа, с грязными отекшими пальцами, из которых большие были загнуты внутрь, к ладони. Один из студентов, в переднике, ловкими движениями подрезывал кожу на спине. От разрезанного свежего трупа пахло сырой говядиной, как из двери мясной лавки.
Оглянувшись кругом, Полубояринов заметил, что почти все столы заняты. Вокруг двух столов студентов не было — и трупы лежали совсем на виду, неподвижные, вытянутые, желтые, с высоко поднятыми грудными клетками. И Борис с невольной жадностью и с выражением брезгливого ужаса на лице приковывался глазами к трупам, мимо которых они с Затонским проходили. И опять его чуткое, повышенное обоняние различало новый оттенок запаха: от давнишних трупов, политых дезинфицирующими жидкостями, пахло жареным мясом — тем самым запахом, который до обеда дразнит аппетит, а после обеда так противен.
Голова его кружилась сильней и сильней. Его все более ужасала своей простотой та мысль, что вот эти люди, которые ходили, думали, говорили, надеялись, любили, точно так же как и он ходит, любит и думает, вдруг в какие-нибудь две-три минуты, в силу какого-то непостижимого, но, вероятно, очень простого закона, они стали тем, чем они теперь есть: холодными, отвратительными, гниющими предметами. Борис, благодаря своему тепличному воспитанию, в первый раз столкнулся так близко и так жестоко с ужасным лицом смерти и с мыслью о ее неизбежности. Конечно, он давно знал, что люди умирают, но знал это как-то неуверенно, поверхностно, теоретически, и теперь его привело в трепет то новое для него сознание, что и его тело, сильное и здоровое, когда-нибудь станет таким же холодным, страшным предметом, как и те, что лежат на цинковых столах. Когда прежде он видел мертвеца при сиянии свеч, в кадильном дыме, в парчовом гробу, — тогда ужас смерти смягчался торжественностью обряда и той надеждой на будущую жизнь, которую обещали слова печальных молитв. Теперь же Бориса в первый раз охватило мгновенно страшное значение смерти…
IV
— А вот наша партия. Что вы так задумались, Полубояринов? — сказал Затонский. Они подошли к четырем стоящим в конце залы студентам и поздоровались. Кто-то опять заметил Полубояринову про его бледность.
— Ну, теперь все в сборе, можно и за трупом идти, — сказал высокий и плечистый студент Дорошенко, занявший как-то невольно в партии роль руководителя. — Айда, братцы, в трупарню. У нас сто пятый номер. Помните?
Все тронулись за ним следом.
— Что это за сто пятый номер? — спросил Борис у своего путеводителя.
— Это номер трупа. Их всех здесь по номерам расписывают. Увидите сами.
Хорошо, если еще свежий труп попадется, а то иной раз… просто мочи нет…
У дверей трупарни студентов встретил Захарыч, старый севастопольский унтер, седой, пьяный и небритый, но с николаевской выправкой.
— Какой номер?
— Сто пятый, — ответил за всех Дорошенко. Захарыч отворил дверь и впустил партию. Тяжелый, жирный запах на несколько секунд заставил Бориса закрыть лицо руками. Вся комната сплошь была, точно дровами, завалена трупами, и тут действительно Борис увидел, что у каждого трупа на ноге была проставлена грубыми чернильными мазками цифра. В углу в беспорядке валялась куча грязного, частью кровавого тряпья. Все это были одежды, в которых привезли покойников.
Захарыч вместе со своим помощником, глуповатым, вечно улыбающимся гигантом, положили сто пятый номер на носилки и подняли. Борис видел, как заколыхалась стриженая голова и заколыхались опустившиеся с носилок бледные руки. Но когда несущим пришлось около двери сделать поворот, то в кучке студентов произошла давка. Кто-то нечаянно толкнул Бориса вперед, и он не успел отстраниться, как одна из болтающихся холодных каменных рук задела его по лицу. Борис дико вскрикнул, затрясся и упал без чувств.
V
Переодевшись дома с ног до головы и надушившись крепкой эссенцией модных духов, чтобы заглушить преследовавший его трупный запах, Борис махнул рукой на лекцию и отправился в «гимнастическое общество», где в эту пору собирался спортсменский кружок князя Белого-Погорельского. Его инстинктивно тянуло туда, где было больше шума и движения.
Зала, когда в нее вошел Борис, была полна. Посредине пять или шесть пар гимнастов в проволочных масках, в замшевых нагрудниках, с уродливыми перчатками на руках, фехтовали, громко топая ногами при выпадах. Несколько человек в трико работали на трапециях и турниках. Пахло здоровым потом и деревом пола, только что сбрызнутого водой.
Борис прямо прошел в тот конец залы, где около пирамиды с тяжестями собралась густая кучка зрителей, тесно обступившая трех молодых людей в трико, с голыми мускулистыми руками и шеями.
— А! Борис Ильич! Боренька! — послышались навстречу Полубояринову дружеские приветствия. — Идите, идите сюда скорей! У нас здесь интересное состязание.
Борис подошел ближе и поздоровался с знакомыми. Состязались: князь Белый, известный местный силач податной инспектор Шахтин и профессиональный геркулес из цирка — Франц Ризенкампф. Ризенкампф внушал кружку серьезное опасение своими чугунными мышцами, вокруг которых чуть не лопалась обтягивавшая их кожа.
Состязание началось с пяти пудов. Каждый из трех брал, ладонями внутрь, длинную железную штангу с большими шарами на концах, взбрасывал ее на грудь, а с груди толчком всего тела выкидывал кверху. После каждого тура в шары всыпали горсть или две картечи. Князь отстал на пяти с половиной пудах. Ризенкампф, весь мокрый от усилий, еле справлялся со своей тяжестью, пыхтя и багровея. Шахтин работал удивительно чисто и только все более и более бледнел, — он, как и все почти силачи, злоупотребляющие гирями, страдал пороком сердца. Видно было, что победа останется за Шахтиным.