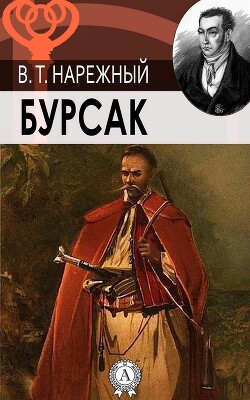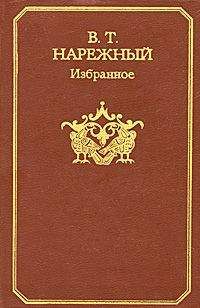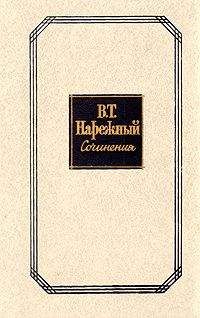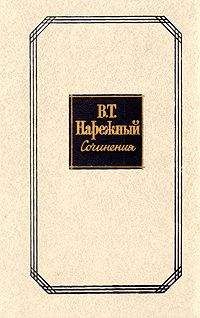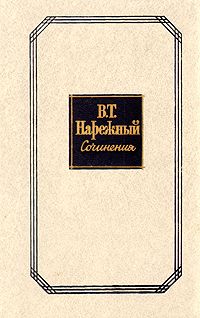С сими словами, растрепав косы и теребя себя по бокам, кинулась она в покои гетмана и застала его на прощанье с нареченным зятем, а Куфий на ту пору, стоя в углу, доканчивал кубок. «Высокоповелительный гетман! — кричала Филонида в отчаянии, — долгом поставлю донести, что злокозненный шут Куфий теперь только увел дочь твою Евгению и оба провалились без вести».
Гетман и князь Станислав поражены были сим доносом. «Куфий? — спросил первый с крайним замешательством, — но когда он успел это сделать, находясь при мне целый вечер и половину ночи?» Куфий, утирая усы, подступил к своей возлюбленной, обошел ее кругом и плачевным голосом промолвил: «Ах, как жаль, что такая молоденькая красавица рехнулась ума! Конечно, ей привиделся домовой в моем наряде! Не печалься, душа моя! Помолись усерднее, и вся сила вражия тебя не одолеет!»
«Пусть так! — вскричал наконец Никодим, — я своим глазам больше верю, чем ушам, и знаю, что Куфий был при мне безотлучно; но куда ж девалась Евгения? О женщины, кто постигнет ваши прихоти? Не она ли казалась совершенно довольною моим выбором, а накануне свадьбы скрывается! Но почему знать; может быть, она пробралась в дворцовую церковь, дабы наедине помолиться господу богу о ниспослании счастия в новой жизни. Не надобно никого винить, не видя ясных причин к обвинению. Поищем ее подле себя, не делая огласки, и я надеюсь, что найдем!» — «Но зачем же, — сказала рыдающая Филонида, — зачем, идучи на молитву, брать в проводники оборотня и надевать мое спальное платье?» — «Твое платье?» — спросил с пасмурною важностию отец, и печальная надзирательница поведала подробно, что сама узнала от служанок.
Теперь нечего было сомневаться, что Евгения не с тем вышла из своей комнаты, чтоб когда-нибудь или по крайней мере скоро в нее возвратиться.
Гнев отца, оскорбленного в глубине души, и негодование жениха, коего надменность столько унижена, были неописанны. Тот же час дано приказание делать обыск во дворце и в доме Калестина, ибо многие полагали, что домовой в шутовском наряде был не иной кто, как дерзкий любовник Леонид; сверх всего, отряд из полка гетманского послан объездить все окрестности Батурина, чтобы, буде встретит беглецов, задержать и представить в столицу; словом, все было в сильном движении, в суете, но успеха не вышло нисколько.
Три дни и три ночи прошли в бесполезных поисках и, наконец, — по обыкновению, — все утихло во дворце и городе; литовский князь отправился восвояси, один гетман пребыл в гневе непрерывном. Тщетно Куфий советовал ему простить дочь виновную и объявить о сем во всех концах Малороссии, — нет! он дал клятву искать случаев к примерному отмщению.
Глава VI
Похороны
Желая утешить больного, огорченного дядю, утром на другой день после сего я подробно уведомил его об удальстве своем и Леонидовом. «Благодарение небу! — воззвал Калестин, — я умираю не без отмщения, и память моя не будет поругана! Объяви сыну и потомству его мое благословение!» При сих словах он поднял вверх руки, устремил в потолок неподвижные взоры, вздохнул — и его не стало. Ты можешь, Неон, вообразить горесть мою, да и как равнодушно снести в одно время потерю брата и дяди, коим обязан был более, нежели жизнию! Опрятав усопшего с надлежащею честию, уложил в великолепном гробе и поехал во дворец. От придворного старшины настоятельно потребовав свидания с гетманом, был введен в его комнату, где, отдав глубокое почтение, сказал: «Высокоповелительный гетман! письмо твое к дяде Калестину имело наконец свое действие! Он оставил уже все требования на дочь твою для своего сына, остается совершенно спокойным и тебе равномерно желает мира и спокойствия». — «Хотя сын его, — отвечал он, — огорчил, обидел меня несказанно, так что и до гроба не надеюсь быть утешен, но для меня отрадно, что старый друг мой ничего не знал о сем преступном деле. Хотя я Леонида никогда уже не увижу или увижу на эшафоте, но Калестина охотно приму в свои объятия, и он по-прежнему останется моим другом и первым вельможею в совете». — «О гетман! — сказал я с тяжким вздохом, — мой почтенный дядя не имеет уже нужды в земном величии!» — «Как, что это значит?» — спросил гетман протяжно и изменяясь в лице. Вместо ответа я зарыдал, закрыл глаза руками и отошел к стороне. «Понимаю!» — сказал Никодим и замолк. Горестное безмолвие длилось несколько минут. Когда я утер слезы и взглянул, то увидел, что и он сидел за столом, склоня голову на руки и закрыв глаза.
Тогда Куфий, тут же находившийся, подошед к нему, сказал: «Добрый человек!
Я знал Калестина и уверен, что он теперь на тебя не ропщет. Мы ненавидим смерть и представляем ее в виде ужасного чудовища, пока душа наша пребывает в теле; но как скоро она избавится от сего тягостного ига, то мы взглянем на нее с любовию, и она покажется нам в образе прелестного благодетельного ангела, и тогда на все земное будем смотреть, как теперь смотрим на самые черные, гнусные вещи».
Умствующий Куфий достиг своей цели: гетман встал, прошел по комнате взад и вперед и, вздохнувши, произнес: «О мудрый сын Давидов! сколько справедливо сказал ты: суета суетств и всяческая суета! — Тогда, подошед ко мне, спросил:- Когда же располагаешься отдать последний долг своему дяде?»
— «Послезавтра», — отвечал я, и мы расстались.
Весь город любил покойного дядю за его честность, добродушие и готовность к помощи. Немало подивился я, когда накануне похорон дворецкий подал список особ, кои, посещая покойного, объявили желание проводить гроб до могилы, а это значит, что приготовились по окончании печального обряда хорошо поесть и попить в его доме. Дядя всегда был запаслив, и угощение великого множества народа не делало остановки; но меня затрудняла мысль, где уместить всех. Подумав о сем обстоятельстве, я решился в столовой комнате угостить духовенство и почетнейших людей, а для прочих разбить на дворе шатры, которые равно пригодны во время дождя и ведра. Я приказал сделать нужные на сей предмет распоряжения.
Поутру, в уреченное время, явились духовные и миряне. Все готово было к начатию отпева, как на улице раздалась унылая, плачевная музыка. Мы бросились к окнам, и общее удивление было немалое, когда увидели гетмана, сопровождаемого знатнейшими чинами военными и целым полком телохранителей.
Позади его развевалось знамя Малороссии, последуемое множеством пушек. Все одеяние повелителя было черное бархатное, вышитое серебром; сабля и кинжал вложены были в такие же ножны. Мы все, как духовные, так и светские, стали в надлежащий порядок и дали свободный путь высокому посетителю. Он вошел в покой, приближился ко гробу, облобызал чело покойного и стал у возглавия с такою важностию, с таким спокойствием, с таким даже равнодушием, что подивились все, коим известна была прежняя дружба его с Калестином, а известна она была всем до одного. Но когда томные, унылые гласы провозгласили преставившемуся вечную память и приглашали всех предстоящих к отданию ему последнего целования, гетман не мог более крепиться; он задрожал, припал на труп, обнял гроб обеими руками и зарыдал горько. Все поражены были сим неожиданным явлением, и слезы брызнули из глаз каждого. И действительно, кого не тронет до глубины сердца сколько горестное, столько и — если смею так сказать — величественное позорище видеть человека, превышающего всех в своем отечестве властию и могуществом, уступающего наконец силе природы наравне с последним из рабов своих!
Никто не дерзал прервать сетования Никодимова. Он скоро, однако, укрепился; облобызал чело, губы и руки Калестиновы и в горестном безмолвии отошел от гроба, утирая белым платком глаза свои и щеки. Общее прощание кончилось. Гетман шел с открытою головою позади гроба. По опущении оного в могилу произведена была пальба из пушек и ружей, и, по отдании сей последней чести, все возвратились в дом Калестина, не исключая и гетмана, удостоившего обед наш своим присутствием. Вскоре после стола он, с приличною свитою, отправился во дворец, а прочие гости начали бражничать, ибо его пребывание удерживало всех в границах строгой благопристойности. Не знаю, хорошо или худо установлено, чтобы по предании земле родственника или друга заводить пиршества; но утвердительно говорю, что пиршества такого рода, какие у нас в употреблении, то есть исполненные во всем излишества, отвратительны, следовательно, — никуда не годятся.