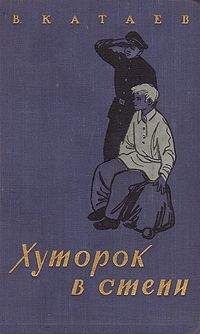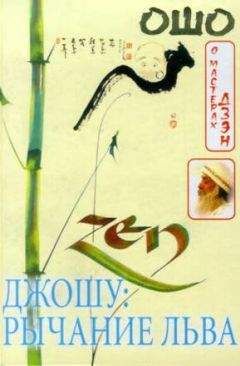Впрочем, это была единственная вольность, которую позволял себе Василий Петрович. В остальном он ни в чем не отклонялся от самых строгих академических традиций.
– Итак, – говорил он, искоса заглядывая в конспект, – в прошлый раз, господа, мы с вами познакомились с жизнью первобытного человека, который уже умел добывать огонь, с помощью примитивных каменных орудий охотился на диких животных, но еще не научился возделывать землю и сеять хлеб…
И Петя, который иногда тоже подсаживался в кружок, чтобы послушать лекцию, с удивлением видел перед собой не привычного, домашнего папу, милого, доброго, иногда несчастного, а совсем другого человека педантичного преподавателя, так ясно и последовательно излагающего свой предмет.
Петя никогда не предполагал, что у отца такой красивый, звучный голос и что его с таким детским вниманием могут слушать все эти взрослые рабочие люди. Петя заметил, что они его даже боятся. Например, однажды во время лекции дядя Федя, позабывшись, закурил. Тогда Василий Петрович вдруг остановился на полуслове и посмотрел на дядю Федю таким ледяным, неподвижным взглядом, что дядя Федя зажал горящую цигарку в кулак, покраснел, вскочил на ноги, вытянулся и, выпучив глаза, гаркнул по-матросски:
– Виноват, товарищ лектор! Больше не повторится.
– Садитесь, – холодно сказал Василий Петрович и продолжал развивать свою мысль с того самого слова, на котором остановился.
А Терентий из-за его спины показал дяде Феде кулак, и тогда Петя понял, что папа не только сам любит и уважает свое дело, но умеет заставить уважать его и других.
Обычно с субботы на воскресенье все оставались ночевать на хуторке, чтобы, встав пораньше, продолжать работу в саду, поэтому сейчас же после лекций начинали готовить ужин.
Возле шалашей, сложенных из бурьяна и полыни, разводили костер, ставили на него большой чугун – варили кулеш с картошкой и салом. Наступала ночь. Под деревьями было непроглядно темно, и казалось издали, что костер горит в пещере. Вокруг него двигались гигантские тени людей, доставая головами до звезд. И все это напоминало Пете цыганский табор.
Когда поспевал кулеш, Терентий подходил к дому и звал Василия Петровича:
– Милости прошу к нашему шалашу!
Через некоторое время у костра появлялся Василий Петрович, но уже на этот раз по-домашнему – в старой косоворотке и сандалиях на босу ногу. Ему протягивали деревянную ложку, и он, присев на корточки, с видимым удовольствием ел да похваливал слегка придымленное огненное варево. Потом пили также слегка придымленный чай с житным флотским хлебом.
Иногда на огонек приходили знакомые Терентия, рыбаки с Большого Фонтана, и приносили свежую рыбу – бычков или глосиков. Тогда ужин затягивался далеко за полночь. Понемножку начинались политические разговоры – сначала осторожные, иносказательные, а потом все более и более откровенные и такие решительные, что Василий Петрович сначала притворно зевал, ерзал на траве, а потом говорил, вставая:
– Нуте-с, господа, не буду вас больше обременять своим присутствием. Благодарствуйте за хлеб, за соль, а я лично отправляюсь на боковую. И вам советую. А кулеш был действительно бесподобный!
Его не удерживали. После ухода Василия Петровича тушили костер и перебирались в шалаш Терентия, где при свете железнодорожного фонаря продолжалась беседа уже совсем другого характера. Появлялась Павловская с толстой, растрепанной книгой, завернутой в полотенце. Петя уже знал, что теперь сначала будут читать «Капитал» Маркса, последние номера «Правды», а потом решать разные партийные дела.
Но присутствовать при этом не полагалось не только Пете, но даже и самому Гаврику. На их обязанности лежала наружная охрана. Они должны были время от времени обходить вокруг хуторка, наблюдая за степью и в особенности за дорогой.
В случае если покажется кто-нибудь подозрительный, они должны были дать сигнал тревоги – выстрелить из берданки. Но кто мог появиться поздней ночью в степи, далеко от города? Кому могло прийти в голову, что где-то в глубине фруктового сада, в маленьком шалаше, при свете железнодорожного фонаря, восемь или десять человек – простых рабочих, мастеровых, большефонтанских рыбаков – обсуждают судьбы России, судьбы всего мира, составляют листовки, решают партийные дела и готовятся к новой революции?
Однако Петя и Гаврик весьма строго и точно исполняли свои обязанности. У Пети за спиной висела старая берданка из хозяйства мадам Васютинской, а Гаврик то и дело опускал правую руку в карман, где у него лежал заряженный браунинг, чего Петя даже не подозревал.
Сначала с ними за компанию вокруг хуторка ходили девочки. Марина, конечно, понимала, в чем тут дело, а Мотя простодушно думала, что мальчики охраняют сад от воров, и она, затаив дыхание, шла на цыпочках за Петей и не сводила глаз с его берданки.
Она уже не только не сердилась на Петю, оказавшегося таким врунишкой, но даже любила его еще больше, особенно теперь, когда все вокруг было так тихо, темно и таинственно, когда все давно уже спали, – не спали только перепела и сверчки, – и когда степь вокруг неясно серебрилась от звезд.
– Петя, а вы не боитесь воров? – спрашивала она шепотом, но Петя молчал, делая вид, что не слышит.
Сейчас ему было не до любви. Да и вообще он дал себе слово больше не связываться с девчонками. Хватит! Пусть он лучше теперь будет одинокий, замкнутый, мужественный человек, для которого не существует женщин. Он напряженно всматривался в пустую степь, прислушивался к малейшему шороху. А Мотя плелась за ним на цыпочках и шептала:
– Петя, а вы будете стрелять, если вдруг увидите воров?
– Понятное дело, – отвечал Петя.
– Тогда я лучше закрою уши, – изнемогая от страха и любви, шептала Мотя.
– Отстань!
Она умолкала, но через некоторое время за спиной у Пети слышались странные звуки, как будто чихала кошка. Это сдержанно смеялась Мотя.
– Ты чего там хихикаешь?
– Вспомнила, как мы вас мутузили вместе с Маринкой.
– Дура! Это я вас мутузил, – бормотал Петя.
– Вы фантазер, – говорила Марина голосом своей матери.
Она вообще во время подобных ночных прогулок держала себя весьма сдержанно, солидно, как взрослая, больше молчала и шла все время рядом с Гавриком, даже иногда брала его под руку. Хотя Петя и чувствовал при этом небольшие муки ревности, но продолжал стойко играть роль человека, для которого не существует любви.
Увы, любовь не только существовала, но ею была как бы пропитана вся эта теплая степная ночь. Любовь была во всем: в темном небе, засыпанном серебристым песком мелких летних звезд, в хрустальном хоре сверчков, в мягких порывах теплого, почти горячего полуночного ветра, несущего пряные запахи чабреца и цветущей полыни, в далеком лае собак и особенно в огоньке светлячка, который, казалось, горит где-то за тридевять земель, а на самом деле стоило лишь протянуть руку – и мягкий, невесомый фонарик уже лежал на ладони, освещая вокруг себя крошечный участок кожи своим безжизненно-зеленым селеновым светом.
Девочки собирали светлячков и клали друг другу в волосы. Потом они начинали зевать и скоро уходили в свой шалашик, плывя в темноте, как два маленьких созвездия.
Гаврик и Петя оставались одни, продолжая охранять лагерь до тех пор, пока в шалаше Терентия не гас фонарь. Иногда он гас лишь на рассвете.
В эти предутренние часы Гаврик был особенно откровенен, и Петя узнавал много нового. Теперь для него было ясно, что уже началось новое, мощное революционное движение и во главе его стоит Ульянов-Ленин, который недавно, по словам Гаврика, переехал из Парижа в Краков, чтобы находиться поближе к России.
– И ты думаешь, она будет… революция? – спрашивал Петя, с усилием выговаривая это грозное слово.
– Не думаю, а наверное, – отвечал Гаврик и прибавлял шепотом: – Если хочешь знать, она уже вот-вот…
Затаив дыхание, Петя ждал, что он скажет дальше. Но Гаврик молчал, не умея объяснить словами все, что он чувствовал и слышал от Терентия. Впрочем, Петя понимал и без слов. Ленский расстрел. Забастовки. Митинг в степи за Ближними Мельницами. «Правда». Драка с «союзником». Прага. Краков. Ульянов-Ленин. Наконец, эта ночь и этот фонарь в шалаше. Разве все это не было предчувствием нарастающей революции?
Скоро поспела вишня. Ее было не так много, как черешни, но возни с ней было не меньше. В самый разгар уборки неожиданно появилась мадам Стороженко. На этот раз она не въехала в усадьбу, а ее бричка остановилась за валом, поросшим дерезой, и мадам Стороженко долго стояла во весь рост на подножке, держась за голову одного из «персов», и наблюдала за уборкой.
– Босяки, хулиганы, пролетарии! – время от времени кричала она, грозя большим парусиновым зонтиком. – Вы у меня посмотрите, как сбивать цены на фрукту! Интересно знать, куда смотрит полиция!
Но на нее не обратили внимания, и она уехала, крикнув издали: