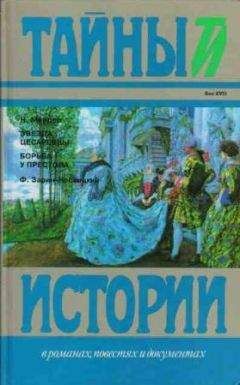Она сидела в своей любимой красной гостиной и от нечего делать подбрасывала с ноги туфлю и старалась поймать ее опять на ногу. За этим занятием ее застал Рейнгольд.
Она искренне обрадовалась ему, но сейчас же встревожилась, увидя его расстроенное лицо.
– Рейнгольд, что случилось? – спросила она.
– Самое худшее, что только могло случиться, – ответил Рейнгольд, целуя ее руку.
Она вся насторожилась.
– Что же, Рейнгольд? Кажется, все теперь спокойно, – сказала она.
– Кажется? Да, только кажется, – ответил он угрюмо. – Кажется также, что не сносить мне головы! Она с тревогой смотрела на него.
– Ни мне, ни твоему мужу, ни… да что говорить, – продолжал он в волнении. – Мой братец да этот старый черт Остерман вызвали сюда Бирона! Он теперь во дворце! Императрица сходит с ума из боязни за него!..
– Бирон, – воскликнула Лопухина. – Но ведь она!..
– Она сошла с ума, говорю тебе, – произнес Рейнгольд. – Она впутала меня в это подлое дело. Не сегодня – завтра верховники узнают, что Бирон во дворце императрицы. Они не остановятся ни перед чем!.. Голова Бирона так же непрочно сидит на плечах, как и моя. Довольно того, – в волнении продолжал он, – что я тогда, как дурак, вмешался в их игру. То прошло незамеченным. А вот теперь этот проклятый старик снова хочет погубить меня…
Лопухина молчала, подавленная.
– Ты только пойми, – продолжал Рейнгольд. – Если верховники узнают, что я посылал брату письмо, что я нанимал помещение для Бирона, что я встречал его… Я чужой теперь здесь… Дмитрий Михайлович ненавидит иноземцев… Что же будет!..
И он продолжал говорить, высказывая Лопухиной всю свою злобу на брата и Остермана. Говорил о том, что императрица решила начать беспощадную борьбу с верховниками, что дело может дойти чуть не до междоусобицы, что он сам каждую минуту может быть арестован, если случайно все откроется, что он теперь боится оставаться дома…
– Отчего ты скрывал это раньше? – с упреком спросила Лопухина. В эти минуты в ее душе воскресли в полной силе вся былая нежность и любовь к Рейнгольду. Он стал ей бесконечно дорог при мысли, что ему грозит смертельная опасность.
Рейнгольд безнадежно махнул рукой.
– К чему было говорить! – сказал он. – Все кончено! Разве можно скрыть приезд Бирона? Она поместила его с сыном в своих апартаментах. Она обезумела от любви и ярости. Она готова на все, и она влечет нас всех к гибели!..
Рейнгольд опустился на низенький табурет и закрыл лицо руками. Лопухина наклонилась к нему и нежно обняла его.
В эту минуту послышались в соседней комнате чьи‑то уверенные шаги. Это не были шаги лакея, не смевшего входить без зова. Только три человека могли так уверенно входить в ее красивую гостиную. Рейнгольд. Но он здесь. Муж. Но она хорошо знала его тяжелые шаги, сопровождаемые бряцаньем шпор. Шастунов!
Эти мысли мгновенно пронеслись в ее голове. – Рейнгольд, Рейнгольд, – торопливо зашептала она. – Это Шастунов. Адъютант фельдмаршала Долгорукого. Ты очень расстроен, уйди… Туда, через спальню, ты знаешь? Я не хочу, чтобы вы встречались, теперь опасно…
И она толкала Рейнгольда к противоположной двери.
«Шастунов? Соперник? Новый враг? Я могу погибнуть…»
Мысли вихрем налетели на Рейнгольда.
– Я напишу, я, может быть, что‑нибудь узнаю, – говорила Лопухина. – Уйди же.
Рейнгольд и сам думал, что лучше не встречаться с Шастуновым. Быть может, Шастунову все известно. Быть может, уже отдан приказ об его аресте.
Животный страх охватил Рейнгольда. Он вспомнил о своих брильянтах. «Я еще могу убежать в случае опасности». – И, бросив на Лопухину выразительный взгляд, он поспешно вышел.
Еще не перестала колебаться опущенная за ним портьера, когда в другие двери вошел Шастунов. Лопухина была в полной уверенности; что Рейнгольд поспешил домой. Рейнгольд сперва так и намеревался. Он хотел бежать домой, захватить деньги и брильянты, скрыться где‑нибудь временно в укромном местечке и там ждать дальнейших событий. Но, пройдя две комнаты, он раздумал. Зачем бежать преждевременно? Он может сейчас узнать кое‑что интересное. И на цыпочках, тихонько, он воротился назад и остановился за тяжелой портьерой, отделявшей красную гостиную. Он не мог видеть лиц разговаривавших, но, хотя глухо, до него доносились слова.
Когда вошел Шастунов, Лопухина с обычным видом сидела в кресле.
– А! Это вы, князь? – приветливо произнесла она.
– А вы ждали другого? – ревниво спросил Арсений Кириллович, целуя ее руку.
– Это скучно, князь, – возразила Лопухина. – Сводитесь сюда и рассказывайте, что нового? Как ваша служба, что поделывает ваш фельдмаршал?
Стоя за занавеской, Рейнгольд напряженно слушал.
– Ах, что мне служба! Что мне фельдмаршал! – воскликнул Шастунов. – Разве в этом моя жизнь!.. Вы знаете!..
Но Лопухина, все еще под впечатлением Рейнгольда, быстро перебила его:
– Мне надоел, наконец, траур. Мне скучно. Правда ли, что императрица хотела, чтоб коронование было теперь же, а Верховный совет отложил церемонию до апреля?
– Я ничего не слышал об этом, – угрюмо ответил Арсений Кириллович. – Неужели в эти дни вы только и думали о предстоящих балах? – с горечью спросил он.
Лопухина нетерпеливо передернула плечами.
– А о чем еще думать одинокой женщине? – с вызовом сказала она.
– Так вы одиноки, – тихо начал Шастунов. – Вы одиноки, несмотря на мою любовь?
Лопухина молчала.
– Я никогда не решался приблизиться к вам, – продолжал Шастунов, и его голос звучал сдержанной страстью. – Вы были для меня как солнце. Я только издали ревниво любовался вашей красотой… Я бы так и прожил. Но вы сами…
Его голос прервался. Его бледное, прекрасное лицо, горящие глаза, нежный, страстный голос опять покорили Лопухину. Со свойственным ей непостоянством она уже забыла о Рейнгольде. И странное чувство двойственности овладело ее душой. Мгновениями ей казалось, что она видит Рейнгольда, слушает его голос. Лицо Шастунова делалось похожим на лицо Рейнгольда.
Она полузакрыла глаза.
– Зачем вы мучаете меня, – продолжал Шастунов, опускаясь на колени и беря ее руку. – Ведь я так люблю вас, мне так тяжело. Ведь я мог иметь право верить в вашу любовь. Все эти дни я тосковал и ревновал. Ужели этот Рейнгольд, ничтожный и пустой…
Легкий скрип пола заставил Шастунова обернуться. Но в комнате никого не было. На одно мгновение ему показалось, что тяжелая малиновая портьера колеблется. Но это было только мгновение. Он снова повернул свое страстно – молящее лицо к Лопухиной и опустил голову к ней на колени.
– Ведь я люблю, люблю тебя, – шептал он, опьяненный ее близостью, запахом ее духов, биением ее сердца.
– Оставь, оставь, – тихо останавливала его Лопухина.
За портьерой вновь послышалось движение. Но Шастунов не слышал. Он поднял голову и потянулся к Лопухиной воспаленными губами. Она наклонила к нему голову.
Портьера заколебалась сильнее. Рейнгольд понял наступившее молчание…
– Ты моя, ты моя, – твердил Шастунов.
Рейнгольд сделал резкое движение и, запутавшись в складках портьеры, пошатнулся и невольно ударил каблуком сапога в пол.
Лопухина вырвалась из объятий Шастунова. Шастунов тоже услышал стук. Портьера сильно колебалась.
– Нас подслушали, – произнес Шастунов и со стремительной решимостью, прежде чем Наталья Федоровна успела удержать его, бросился к портьере, резким движением откинул ее и увидел бледное, искаженное яростью, но вместе с тем смущенное лицо графа Рейнгольда… Это было так неожиданно, что Шастунов выпустил из рук портьеру, и она на миг снова закрыла Рейнгольда.
Лопухина слабо вскрикнула и закрыла лицо руками.
Рейнгольд отбросил рукой портьеру и вышел. Он был очень бледен. Сделав шаг вперед, положа руку на эфес шпаги, он остановился перед пораженным Шастуновым. Никто из них не взглянул на Лопухину, словно окаменевшую, с закрытым руками лицом.
Шастунов первый нашел в себе силу заговорить.
– Прошу извинения, граф, – с насмешливым поклоном произнес он, – что я так неосторожно помешал вашему занятию. Но я не знал, что это ваше ремесло, – с презрением добавил он.
– Я не желаю здесь говорить и объясняться с вами, – дрожащим голосом ответил Рейнгольд.
– Я полагаю, – высокомерно ответил Шастунов, – что нам вообще не о чем объясняться. Я не буду объясняться с лакеем, подслушивающим у дверей.
– Ни слова больше! – в бешенстве крикнул Рейнгольд, обнажая до половины пшату.
– Рейнгольд! – отчаянно закричала Наталья Федоровна, бросаясь между противниками. – Князь!
Рейнгольд – это Левенвольде. Князь – это ему!
Презренье, отчаянье и злоба наполнили душу Арсения Кирилловича при этом крике Лопухиной. Тяжелым, презрительным взглядом посмотрел он в ее прекрасное, умоляющее лицо и медленно повернулся.