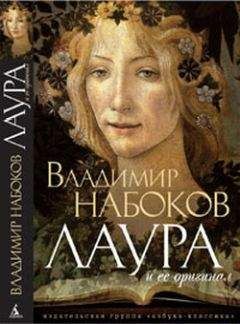И вместе с тем какое-то развитие форм вне сомнения, откуда-то "пузыри видов" возникли, как-то росли, почему-то лопнули… Вот этот путь нам нужно теперь проследить.
Черпая опять из корзины общедоступных примеров, напомним аналогию, замечаемую между развитием особи и развитием вида. Весьма плодотворно в этом смысле рассмотрение мозга человека. Мы вытекаем из тьмы и детства и в детство и тьму впадаем, совершая полный круг бытия. В течение жизни мы научаемся, между прочим, и понятию «вида», понятию, которое предкам нашей культуры было неведомо. Однако не только история человечества пародируется историей развития пишущего эти и другие строки, но развитие человеческого мышления, индивидуально и исторически, находится в удивительной связи с природой, с духом природы, рассматриваемой в совокупности всех ее явлений и всех временем обусловленных изменений их. И действительно, как допустить, что среди великой мешанины, содержащей в себе зачатки <нрзб.> органов (их сейчас представлено до сорока трех), прекрасный хаос природы никогда не вмещал в себе мысль? Можно сомневаться в способности гения оживить мрамор, но нельзя сомневаться в том, что страдающий идиотизмом никогда не создаст Галатеи. Разум человека со всеми его ограничениями и правами, будучи даром природы, и притом даром бесконечно-повторным, не может не находиться на складе у дарителя. Пусть он будет на темном складе столь же отличен от своего вида на солнце, сколь мраморный бог отличен от извилин ваятельского мозга, — но все же он есть. Иные причуды природы могут быть не то что оценены, а даже просто замечены только родственно-развитым умом, причем смысл этих причуд только и может состоять в том, что — как шифр или семейная шутка — они доступны лишь посвященному, т. е. человеческому уму и другого назначения не имеют, кроме того, чтобы доставить ему удовольствие, — речь идет о фантастических изощрениях "охранного сходства", которые в мире, где отсутствовал бы художественным чутьем, воображением и юмором наделенный наблюдатель, были бы просто ни к чему ("lost upon the world"), как томик Шекспира, лежащий раскрытым в пыли беспредельной пустыни; этот факт, хотя бы этот один факт, подразумевает молчаливый, тонкий, прелестно-лукавый заговор между природой и тем, кто один может понять, кто один дошел, наконец, до этого понимания, — духовный союз, заключенный поверх всего кишения, шевеления, темноты блуждающих побудков, за спиной всей органической жизни мира.
Как с усложнением мозга происходит умножение понятий, так история природы показывает в отношении образования видов и родов постепенное развитие у природы самого понятия вида и рода. Мы вправе говорить совершенно буквально, в человеческом, мозговом смысле, что природа в течение времени умнеет, что в такой-то срок она до того-то и того-то додумалась. Единственная придирка, которая может быть тут сделана, это то, что под «природой» или "духом природы" мы подразумеваем неизвестно что. Но, как мы дальше увидим, этот чудовищный икс, на который, пользуясь его бесконечной вместительностью, мы возлагаем ответственность и за наше неведение относительно его истинного лица, не скрывается от нас в какой-либо неприкосновенной дымке, а лишь обращается не в нашу сторону, а это свойство в свою очередь кладет начало характеристике, наносит иксу первую рану вещественной постижимости и обещает нам то, что мы, воспитанники орбит, естественно можем ожидать от всякого удаляющегося обращения: продолжения вращения до поворота к нам.
Пока этого не случилось, мы должны удовольствоваться полуулыбкой отворачивающихся уст, заговорческим знаком, ускользающим взглядом прищур<енныx> глаз<?>. Для уяснения конкретного предмета, интересующего нас, — образования видового понятия в уме природы, — этого знака нам достаточно; но путь мысли, преследующей данную цель, так скользок, так зеркально покат и проходит, как всякий предельно правильный путь, по такому узкому карнизу, над такой пропастью бессмыслицы, что самая его новизна может уже вызвать в нас ощущение падения.
Мы должны представить себе некое весьма отдаленное время на Земле, когда понятие вида (или рода) было столь же природе чуждо, как чуждо оно детству человека или человечества. Трехлетний ребенок полагает, что корова жена коня, а пес муж кошки; Стагирит [51] хотя уже отличал "капустного мотылька" от какого-то летящего на огонь «гениола» (этим, кажется, исчерпывались его лепидоптерологические познания), меньше понимал сущность этого различия, чем сегодняшнее дитя или простолюдин. Однако задолго до зари человечества декорации были природой уже сооружены в ожидании будущих рукоплесканий, куколка сливовой «тэклы» уже загримировалась под птичье испражнение, вся пьеса, разыгрываемая ныне с таким тонким совершенством, была готова к постановке — только ждали, чтобы уселся предвиденный и неизбежный зритель — наш сегодняшний разум (а завтрашнему готовится новая программа). Но в отдаленнейшую пору, которую нам надо теперь себе представить, ничего из этого не было еще задумано. Родов и видов природа не знала; торжествовал экземпляр. Иллюстрируя это положение лубочно, можно сказать, что белка, совокупившись с гусем, рожала жирафу, белугу и крестовика. На самом деле, конечно, столь знакомых животных тогда не водилось, и если дается этот кричащий пример, то лишь для того, чтобы сбить с привычных позиций воображение читателя. Неверность примера еще в том, что зоологическим подбором «видов-экземпляров» предполагается хотя бы установление раздела между царством животных и, скажем, царством растений. Но и этого раздела еще не было. Когда бы современный естествоиспытатель, со свойственными ему навыками классификаторской мысли, был бы действительно перенесен в тот первобытный век, в дошкольную эру природы, то на шевелящейся Земле, где различные формы жизни лишь менялись местами, но не дифференцировались (как волна не может почитаться дифференциацией водной стихии), в жирном и жарком молодом мире, под небом, которое в полдневный час было (по глубоко обоснованной догадке голландского геолога Бунинга [52]) "блестяще-черного цвета с солнцем как пламя отблеска в отполированном эбене", он бы застал миллиарды кишащих существ, каждое из коих оказалось бы принадлежащим к отдельному «виду» (понятие в данном случае пустое из-за точного совпадения числа особей с числом видов), и которые в совокупности своей были бы связаны между собой не только семейным сходством полнейшей их неизвестности и несравнимости с ныне известными существами (как объединены наивностью бреда рисунки душевнобольного), но и обобщающей средой, присущей данному возрасту Земли. Эту схожесть можно себе представить еще как множество различных форм жизни, вырезанных из одного и того же куска материи, имеющей свой нехитрый узор, так что по частям этого узора матерьял каждого создания выдавал бы свое происхождение, как бы ни старался закройщик замаскировать его единство посредством разнообразия очертаний, дабы случайным повторением (вырезкой двух аистов или двух окуней) не намекнуть на однородность состава. Поэтому любые два экземпляра из всех находимых на Земле тем исследователем, который доплыл бы вспять до этих верховий земного времени, оказывались бы по своим признакам настолько различными, что требовали [бы] от него, воспитанного на современных методах классификации, размещения по разным отрядам, но вместе с тем были бы отмечены той ложной схожестью (зависящей от "матерьяла"), о которой нам доносят теперь атавистические явления "охранного сходства" — эти "рифмы природы", по гениальному слову автора. Позволим себе тут некоторое отступление или, вернее, раскрытие скобок — и напомним, что множество собранных наблюдений убедило его, во-первыx, в абсолютной невозможности достижения данных сходств путем эволюции, путем постепенного накопления схожих черт или закрепления магических мутаций (что и заставило его пересмотреть и отбросить наиболее «логические» теории происхождения видов); а, во-вторыx, в абсолютной ненужности (заодно опровергающей тупое lex parsimoniae [53] [54] древних натурфилософов) столь роскошных масок для благополучия мимических форм. Среди многочисленных иллюстраций этих откровенных излишеств природы выберем следующий любопытный пример: гусеница весьма локальной сибирской совки Pseudodemas tschumarae водится исключительно на чумаре (Tschumara vitimensis). Ее очертания, спинной узор и окраска щеток делают ее в точности похожей на пушистые, желтые, с ржавым оттенком соцветия этого кустарника. Курьез же заключается в том, что, соблюдая правила своих семейств, гусеница появляется только в конце лета, а чумара цветет только в мае, так что на темной зелени листьев гусеница, не будучи в окружении цветов, заметна с резкой отчетливостью. Получается впечатление (если придерживаться иллюзорной теории "охранного сходства"), что в исполнении договора случилась неувязка или что природа в последнюю минуту обманула одну из сторон. Можно было бы, например, предположить, что некогда цветение чумары, благодаря другому климату, совпадало с появлением на ней гусеницы, которая таким образом была защищена от какого-то необыкновенно хитрого врага, от которого стоило обороняться путем ответно-xитрого камуфляжа. Помимо того, что это совпадение и последующее расхождение невозможно себе представить (хотя бы потому, что данное насекомое, принадлежащее к чисто полярным типам, органически связано именно с нынешним климатом данных мест со всеми вытекающими из него следствиями в отношении сезонных генераций и цветений), совка должна была бы погибнуть, ставши зримой врагу, как только декорация переменилась. Однако же совка до сих пор здравствует и особых врагов у ее гусеницы нет; птицы до нее, жестко-волосатой, нелакомы, а насчет антропоморфических способностей наездников обольщаться не приходится. Допущение же неизвестного врага, ныне вымершего, вводит в наши рассуждения такой гипотетический элемент, что мысль расплывается — или же возвращается не с того боку и с ненужным эволюционным грузом к положению, отличному от истинного в той же мере, как прикладная наука отлична от чистой, а именно к тому, что злодей пьесы, the villain of the play, было существо разумное (так профессор Dawson [55] в порыве отчаяния, знакомом многим эволюционистам, но по-своему совершенно логично предположил, что мимические ухищрения некоторых полинезийских гусениц направлены против малайцев, спокон веков питающихся ими!). Но оставим в покое пресловутую "борьбу за существование": борцам некогда заниматься искусством. То веселое впечатление очаровательной иррациональности, которое испытывает наблюдатель, видя ряженую tschumarae, — мнимый цветок, цветок невозможный, — вот чего хотела добиться, вот чего добилась природа, наша осмысленная сообщница и остроумная мать.