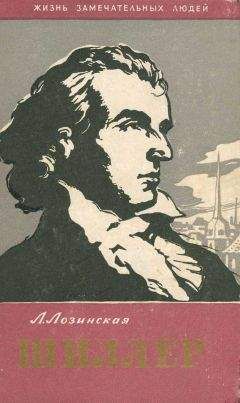«Мне живется отлично, гораздо лучше, чем предполагаете вы, чем предполагал я сам. Я – царек совершенно отдельного, хотя и тесного, небольшого мирка. Нигде не может развиться такая независимость духа, как в деревенском хозяйстве. Но нигде же нет более строгих и точных обязанностей, стало быть, нигде не может развиться в такой степени чувство собственной ответственности. Я подчинен повелителю, от требований которого уклониться немыслимо, но подчинение которому неоскорбительно для самого гордого духа. Имя этого повелителя – „роковые законы природы“. Моя судьба зависит от бесснежной зимы, от морозной весны, от дождливого лета. Двигается по небу грозная туча, я должен покорно выждать, что ей вздумается сделать со мною. Я не знаю прихотей никакого другого начальства, не имею над собою никаких инстанций, никаких регламентов и инструкций, не подвергаюсь ничьему контролю. И, однако, я не смею сделать ни одной ошибки, не смею упустить ни малейшей своей обязанности, потому что в самой ошибке, в самом упущении моем и моя кара, быстрая, неотвратимая, роковая. Тут необходимее быть умным, деятельным, внимательным, чем на кафедре профессора, которая все сносит – бездарность, лень и даже заблуждения. Предполагали ли вы когда-нибудь такую силу воспитательности в практическом хозяйстве? А в нем есть еще гораздо более силы, да теперь не хочется говорить много. Кстати, вы остроумничаете над моим новым делом, обзывая его „эгоистическим и материальным“. Из этого ясно, что вы совершенно не знаете моего дела. Так знайте же хоть теперь, что сельское хозяйство – дело такое же общественное, как и ваше профессорство. Вы думаете: деревня Суровцово на Ратской Плоте принадлежит одному надворному советнику Анатолию Суровцову? Ошибаетесь, друзья мои: надворный советник Анатолий Суровцов – только один из множества владельцев этого общего имущества. Оно очень мало, а владельцев очень много. Владетели его – мой ключник, мой конюх, мой скотник, мой садовник, моя скотница и все вообще мои рабочие и крестьяне. Моя доля в общем пользовании нашим имуществом, говоря безотносительно, побольше их, моя комната почище их, мой стол вкуснее, и я не всегда езжу, как они, на простой телеге. Но сравнительно с нашими потребностями, они получают нисколько не менее моего, они по-своему сыты и нагреты не хуже меня и имеют свободные праздники, зимние вечера для игры на балалайке, выпивки и любезничанья со своими дамами. Я гораздо реже имею досуг и почти не имею средств поразвлечься по своему вкусу. Но главное, их владение деревнею Суровцово гораздо прочнее моего. Я лезу в долги, чтобы как-нибудь удовлетворить насущным потребностям хозяйства; нынче я в барыше, завтра у меня могут отобрать мое последнее достояние. А им навсегда обеспечено их месячное жалованье и их кусок хлеба. Будет ли считаться владельцем имения надворный советник Суровцов или купец 2-й гильдии Силай Лаптев, Суровцово не обойдется без ключника, скотника, конюха и всей рабочей компании, и, какие бы беды ни стряслись лично надо мною, все-таки суровцовские мужички будут получать ежегодно по 5 руб. сер. аренды с каждой пахотной десятины так называемого моего имения, потому что без их сох и борон никакой купец Лаптев не обработает поля. Но даже при таком ограничении своих прав я могу сделать много добра и много зла целой окрестности. Если я сложу руки, не подвину вперед своего дела, не усовершенствую его, мое хозяйство – могила. Некуда наняться, негде ничего заработать, некому продать, не у кого купить соседям. Заварил я деятельное и разнообразное хозяйство – мне все нужны: плотники, кузнецы, копачи окрестности, все имеют у меня заработок под рукою: у одного я куплю свинью на корм, у другого соломы для навоза, у третьего лошадь куплю и лес, и доски, и телегу, что у кого заготовлено для продажи. У меня тоже всякий купит что-нибудь нужное, если не сплю, а завожу, что можно. Купит и круп, и муки с мельницы, и жеребенка, и теленка на завод. Моя деятельность возбудит, таким образом, экономическую жизнь в целой местности. Сбыт и спрос облегчаются, возвышается заработная плата, в глухом углу достигается известное удобство. Разве это не общественное дело, не общественная заслуга?»
О, как же мне не радоваться, читая идиллии г. Маркова, как мне не радоваться так соблазнительно описываемому им сближению с народом! Но знаете ли что? Вам случалось, конечно, хоронить кого-нибудь очень вам близкого и дорогого, чьим лицом вы привыкли любоваться. Вы, значит, знаете то тяжелое ощущение, которое испытывается при виде мертвеца, черты которого так похожи на милое лицо и в то же время так непохожи, так безобразны. Вот это самое испытывал я, читая размазистый и слащавый роман г. Маркова. Что же касается выписанной тирады, то я не буду говорить о крайней наивности Суровцова, по-видимому, серьезно думающего, что он благодетель целого околотка. Письмо же Суровцова я привел для освещения всей идиллии и для показания, что г. Евгений Марков отнюдь не есть в самом деле какая-нибудь новооткрытая Америка, а обыкновеннейшая и избитая до плоскости «Европа». Надо быть действительно очень непроницательным наблюдателем, чтобы увидеть в этом призыве in's Grunu [4] , на лоно природы, что-нибудь характерное для какого бы то ни было времени. Всегда были люди, которые любили пить парное молоко, смотреть на деревенские хороводы, дышать воздухом полей и благодетельствовать работой окрестных крестьян. Всегда были и люди, склонные к занятию сельским хозяйством. Во всяком случае, не могут быть поставлены за общую скобку г. Евгений Марков и, например, гр. Толстой, как он выясняется четвертым томом его сочинений. Мы далеко отошли от Шиллера, от Шиллера – до г. Евгения Маркова! – но многим может показаться, что это даже совсем недалеко, что Шиллер и г. Марков совсем рядом стоят, потому что оба проповедуют возвращение к природе, к простоте сельских нравов. Разница, в том, что проповедь Шиллера и в сто лет не состарилась, а проповедь г. Маркова так и родилась мертвой. Разница в самом источнике порываний того и другого. Сходство же, если оно есть, исчерпывается второстепенными и чисто внешними чертами. Допустим, что «Черноземные поля» в самом деле должны быть занесены в число признаков времени, что в этом литературном явлении выразилось не простое тяготение к парному молоку, свежему воздуху и сельскохозяйственной деятельности, какое могло иметь место всегда и везде, а осложненное злобой дня, нечто характерное для нашего времени, для «семидесятых годов». Какая же это такая злоба дня здесь сказалась? Суровцов ставит свою сельскохозяйственную деятельность рядом с профессорскою деятельностью своих друзей. Он весьма справедливо не видит между ними типической разницы, хотя одна насаждает плоды знания, а другая плоды земли. Действительно, то и другое насаждение могут производиться и производятся при совершенно одинаковой общественной обстановке, до такой степени, что если в числе друзей Суровцова есть профессор политической экономии, то он, по всей вероятности, излагает с кафедры те самые принципы, которые изложены в письме Суровцова. И профессор, и сельский хозяин в настоящем случае окружены одной и той же духовной атмосферой. Правда, резкая разница обнаруживается в физической обстановке. Но это, очевидно, дело личного вкуса. Один любит атмосферу кабинета, типографии, аудитории, жизни городской, другой – атмосферу лесов, полей, жизни сельской. Допустим – что, однако, если и может быть допущено, то только в весьма скромных размерах, – допустим, что людей с деревенскими вкусами ныне становится сравнительно все больше, что утомленные городским шумом, измученные вообще городскими условиями жизни люди усиленно бегут in's Grune. Бесспорно, это движение могло бы иметь многие, не лишенные значения последствия и несколько изменить и самый строй общественной жизни, но лишь в определенных и, в сущности, весьма ограниченных пределах, если при этом профессор политической экономии только превратится в сельского хозяина, оставаясь при тех же принципах, сменяя только кафедру и теорию на деревню и практику. И в том, и в другом случае он остается представителем одного и того же «движения» (если хотите, «европейского»). Мы очень хорошо знаем, в чем состоит это движение: в увеличении производства (в нашем частном случае – сельских продуктов). Механизм этого движения нам до такой степени хорошо известен, что и сомнения не может быть в том, что отлив сил из города в деревню может при нем продолжаться только весьма короткое время. Оставаясь на нашем частном случае профессоров и сельских хозяев, нетрудно видеть, что пропорция тех и других может колебаться только в очень слабых пределах. Профессора политической экономии, исповедующие принципы Суровцова, неизбежны там, где существуют или могут существовать Суровцовы, и обратно: Суровцовы возможны только там, где раздается с кафедр или в книгах голос либеральной политической экономии. Положим, Петров перейдет с кафедры in's Grune по следам Суровцова, но на его место непременно явится Иванов, а если и Иванов уйдет, так его заменит, может быть, даже сын Суровцова. Понятно, что от такого рода перемен никому ни тепло, ни холодно, кроме непосредственно действующих лиц. Все это «движение» есть буря в стакане воды, не имеющая ровно никакого общественного значения, и было бы совершенно недостойно литературы видеть в ней какой-нибудь признак времени, что-нибудь характерное и важное. Недостойно литературы отмечать, как нечто заслуживающее внимания, такую плоскую идеализацию быта современных просвещенных помещиков, какую представляют «Черноземные поля» г. Евгения Маркова.