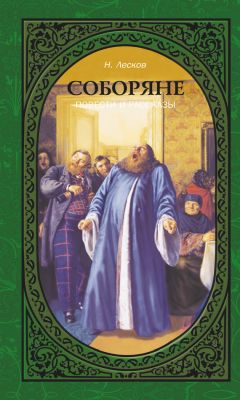Политично за вечерним столом у отца соборного ключаря[23] еще раз заводил речь о сем же предмете с отцом благочинным и с секретарем консистории; однако сии речи мои обращены в шутку. Секретарь с усмешкой сказал, что «бедному удобнее в царствие Божие внити», что мы и без его благородия знали, а отец ключарь при сем рассказали небезынтересный анекдот об одном академическом студенте, который впоследствии был знаменитым святителем и проповедником. Сей будто бы еще в мирском звании на вопрос владыки, имеет ли он какое состояние, ответствовал:
– Имею, Ваше Преосвященство.
– А движимое или недвижимое? – вопросил сей, на что оный ответствовал:
– И движимое и недвижимое.
– Что же такое у тебя есть движимое? – вновь вопросил его владыка, видя заметную мизерность его костюма.
– А движимое у меня дом в селе, – ответствовал вопрошаемый.
– Как так, дом движимое? Рассуди, сколь глуп ответ твой.
А тот, нимало сим не смущаясь, провещал, что ответ его правилен, ибо дом его такого свойства, что коль скоро на него ветер подует, то он весь и движется.
Владыке ответ сей показался столь своеобразным, что он этого студиозуса за дурня уже не хотел почитать, а напротив, интересуяся им, еще вопросил:
– Что же ты своею недвижимостью нарицаешь?
– А недвижимость моя, – отвечал студент, – матушка моя дьячиха да наша коровка бурая, кои обе ног не двигали, когда отбывал из дому, одна от старости, другая же от бескормицы.
Немало сему все мы смеялись, хотя я, впрочем, находил в сем более печального и трагического, нежели комедийной веселости, способной тешить. Начинаю замечать во всех значительную смешливость и легкомыслие, в коих доброго не предусматриваю.
Житие мое провожу в сне и в ядении. Расколу не могу оказывать противодействий ни малым чем, ибо всеми связан, и причтом своим полуголодным и исправником дуже сытым. Негодую, зачем я как бы в посмешище с миссионерскою целию послан: проповедовать – да некому; учить – да не слушают! Проповедует исправник меня гораздо лучше, ибо у него к сему есть такая миссионерская снасть о нескольких концах, а от меня доносов требуют. Владыко мой! К чему сии доносы? Что в них завертывать? А мне, по моему рассуждению, и сан мой не позволяет писать их. Я лучше чистой бумаги пожертвую…
Представлял рапортом о дозволении иметь на Пасхе словопрение с раскольниками, в чем и отказано. Вдобавок к форменной бумаге секретарь, смеючись, отписал приватно, что если скука одолевает, то чтобы к ним проехался. Нет уж, покорнейше спасибо, а не прогневайтесь на здоровье. И без того мой хитон обличает мя, яко несть брачен, да и жена в одной исподнице гуляет. Следовало бы как ни на есть поизряднее примундириться, потому что люди у нас руки целуют, а примундироваться еще пока ровно не на что; но всего что противнее, это сей презренный, наглый и бесстыжий тон консисторский, с которым говорится: «А не хочешь ли, поп, в консисторию съездить подоиться?» Нет, друже, не хочу, не хочу; поищите себе кормилицу подебелее.
13-го октября 1835 года. Читал книгу об обличении раскола. Все в ней есть, да одного нет, что раскольники блюдут свое заблуждение, а мы своим правым путем небрежем; а сие, мню, яко важнейшее.
Сегодня утром, 18-го марта сего 1836 года, попадья, Наталья Николаевна намекнула мне, что она чувствует себя непорожнею. Подай Господи нам сию радость! Ожидать в начале ноября.
9-го мая на день св. Николая Угодника, происходило разрушение Деевской староверческой часовни. Зрелище было страшное, непристойное и поистине возмутительное; а к сему же еще, как назло, железный крест с купольного фонаря сорвался и повис на цепях, а будучи остервененно понуждаем баграми разорителей к падению, упал внезапно и проломил пожарному солдату из жидов голову, отчего тот здесь же и помер. Ох, как мне было тяжко все это видеть: Господи! Да, право, хотя бы жидов-то не посылали, что ли, кресты рвать! Вечером над разоренною молельной собирался народ, и их, и наш церковный, и все вместе много и горестно плакали и, на конец того, начали даже искать объятий и унии.
10-го мая. Были большие со стороны начальства ошибки. Пред полунощью прошел слух, что народ вынес на камень лампаду и начал молиться над разбитою молельной. Все мы собрались и видим, точно, идет моление, и лампада горит в руках у старца и не потухает. Городничий велел тихо подвести пожарные трубы и из них народ окачивать. Было сие весьма необдуманно и, скажу, даже глупо, ибо народ зажег свечи и пошел по домам, воспевая «мучителя фараона» и крича: «Господь поборает вере мучимой; и ветер свещей не гасит»; другие кивали на меня и вопили: «Подай нам нашу Пречистую покровенную Богородицу и поклоняйся своей простоволосой в немецком платье». Я только указал городничему, сколь неосторожно было сие его распоряжение о разорении, и срывании крестов, и отобрании иконы, но ему что? Ему лишь бы у немца выслужиться.
12-го мая. Франтовство одолело: взял в долг у предводительской экономки два шелковые платья предводителынины и послал их в город окрасить в масака[24] цвет, как у губернского протодиакона, и сошью себе ряску шелковую. Невозможно без этой аккуратности, потому что становлюсь повсюду вхож в дворянские дома, а унижать себя не намерен.
17-го мая. Попадья Наталья Николаевна намекнула, что она в рассуждении своего положения ошиблась.
20-го июня. По донесению городничего, за нехождение со крестом о Пасхе в дома раскольников, был снова вызван в губернию. Изложил сие дело владыке обстоятельно, что не ходил я к староверам не по нерадению, ибо то даже было в карманный себе ущерб; но я сделал сие для того, дабы раскольники чувствовали, что чести моего с причтом посещения лишаются. Владыко задумались и потом объяснение мое приняли; но не мимо идет речь, что царь жалует, да его псарь не жалует. Так как дело сие о моей манкировке некоторою своей стороной касалось и гражданской власти, то, дабы положить конец сей пустой претензии и обонпол[25], владыка послали меня объяснить сие важное дело губернатору. Но и было же объяснение!.. Оле[26] мне, грешному, что я только там вытерпел! Оле и вам, ближние мои, братия мои, искренний и други, за срамоту мою и унижение, которые я перенес от сего куцего нечестивца! Губернатор, яко немец, соблюдая амбицию своего Лютера, русского попа к себе не допустил, отрядил меня для собеседования о сем к правителю. Сей же правитель, поляк, не по-владычнему дело сие рассмотреть изволил, а напустился на меня с криком и рыканием, говоря, что я потворствую расколу и сопротивляюсь воле моего государя. Оле же тебе, ляше прокаженный, и ты с твоею прожженною совестию меня сопротивлением царю моему упрекаешь! Однако я сие снес и ушел молча, памятуя хохлацкую пословицу: «скачи, враже, як пан каже». И вышло так, что все описанное случилось как бы для обновления моей шелковой рясы, которая, при сем скажу, сделана весьма исправно и едва только при солнце чуть оттеняет, что из разных материй.
23 марта. Сегодня, в Субботу Страстную, приходили причетники и дьякон. Прохор просит, дабы неотменно идти со крестом на Пасхе и по домам раскольников, ибо несоблюдение сего им в ущерб. Отдал им из своих денег сорок рублей, но не пошел на сей срам, дабы принимать деньги у мужичьих ворот как подаяние. Вот теперь уже рясу свою вижу уже за глупость, мог бы и без нее обойтись, и было бы что причту раздать пообильнее. Но думалось: «нельзя же комиссару и без штанов».
24-го апреля 1837 года. Был осрамлен до слез и до рыданий. Опять был на меня донос, и опять предстоял пред оным губернаторским правителем за невхождение со крестом во дворы раскольников. Донос сделан самим моим причтом. Как перенести сию низость и неблагородство! Мыслитель и администратор! Сложи в просвещенном уме своем, из чего жизнь попа русского сочетавается. Возвращаясь домой, целую дорогу сетовал на себя, что не пошел в академию. Оттоль поступил бы в монашество, как другие; был бы с летами архимандритом, архиереем; ездил бы в карете, сам бы командовал, а не мною бы помыкали. Суетой сею злобно себя тешил, упорно воображая себя архиереем, но, приехав домой, был нежно обласкан попадьей и возблагодарил Бога, тако устроившего, яко же есть.
25-го апреля. Был я осрамлен в губернии; но мало в сравнении пред тем, сколь дома сегодня остыжен, как школьник. Вчера только вписал я мои нотатки о моих скорбях и недовольствах, а сегодня, встав рано, сел у окна и, размышляя о делах своих, и о прошедшем своем, и о будущем, глядел на раскрытую пред окном моим бакшу полунищего Пизонского. Прошлый год у него на грядах некая дурочка Настя, обольщенная проходящим солдатом, родила младенца и сама, кинувшись в воду, утонула. Пизонский в одинокой старости своей призрел сего младенца, и о сем все позабыли; позабыл и я во главе прочих. Но утром днесь поглядаю свысока на землю сего Пизонского да думаю о делах своих, как вдруг начинаю замечать, что эта свежевзоранная, черная, даже как бы синеватая земля необыкновенно как красиво нежится под утренним солнцем и ходят по ней бороздами в блестящем пере тощие черные птицы и свежим червем подкрепляют свое голодное тело. Сам же старый Пизонский, весь с лысой головы своей озаренный солнцем, стоял на лестнице у утвержденного на столбах рассадника и, имея в одной руке чашу с семенами, другою погружал зерна, кладя их щепотью крестообразно, и, глядя на небо, с опущением каждого зерна, взывал по одному слову: «Боже! Устрой, и умножь, и возрасти на всякую долю человека голодного и сирого, хотящего, просящего и произволящего, благословляющего и неблагодарного», и едва он сие кончил, как вдруг все ходившие по пашне черные глянцевитые птицы вскричали, закудахтали куры и запел, громко захлопав крылами, горластый петух, а с рогожи сдвинулся тот, принятый сим чудаком, мальчик, сын дурочки Насти; он детски отрадно засмеялся, руками всплескал и, смеясь, пополз по мягкой земле. Было мне все это точно виденье. Старый Пизонский был счастлив и громко запел: «Аллилуйя!»