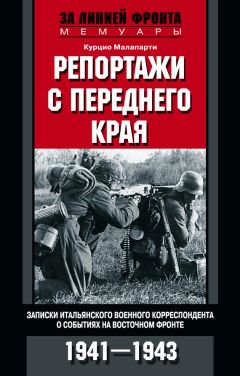Ознакомительная версия.
Буду симулировать тяжелое нервное расстройство. Я ничего не стану объяснять, пусть за меня говорят мои тики, хмыки, корчи, заиканье (я правда что-то стал запинаться), усиленные до размеров бедствия. Лучше казаться психом, чем слабаком, трусом, растерявшимся недоноском, вяло и неумело симулирующим болезнь. А ведь именно таким видела меня женщина в поезде, но она пожалела меня, пустила к себе в душу, а другие жалеть не станут. И когда я принял такое решение, мне стало неизмеримо легче внутри, раскрепощенней. Придурочная личина вдруг стала удобна, как собственная кожа.
Мне не надо было спрашивать, где находится Политуправление. Расположенный неподалеку от базара район казался лысиной города. Оголенный, пустой, он так и вещал о строгости военной тайны. К тому же туда вела сосновая аллея, по которой взад-вперед бродил часовой с винтовкой. Далее виднелись барачного типа дома, отделенные от остального города, словно феодальный замок рвом, огромным буераком...
Собравшись с духом, я ступил на ужасающий сквозняк аллеи, и двинулся вперед, обдуваемый со всех сторон ледяным ветром.
Что город оказался таким безуютным, освобождало меня от коротких радостей, способных в моем положении заменить длительное счастье. А всякий, пусть минутный, покой был бы губителен для меня. Мне нужно полное отторжение, чтобы не раскиснуть и довести дело до конца.
Ветер гнал меня по аллее, как сквозь строй, и я, словно наказуемый солдат, слепо стремился к концу пути, не задумываясь над тем, ждет ли меня там избавление от страданий или от самой жизни. И с каждым новым ударом делал я поспешный и бессильный шаг вперед.
7-й отдел занимал две комнаты большой избы. Я попал в обеденный перерыв, в первой комнате застал лишь старого, унылого инструктора. Тем лучше. Дверь в кабинет начальника была полурастворена. Я заглянул и увидел черное крыло бурки, красное дно папахи, лежавшей на столе, золотую стрелку луча на крутом выгибе орлиного носа. Я ожидал увидеть спокойно-суховатое чиновничье лицо Хрисанфова и был неприятно удивлен.
- Кто этот черкес? - спросил я инструктора.
- Какой еще черкес? Это заместитель Хрисанфова. Начальник в отъезде.
Из-за косяка двери я стал рассматривать этого лихого зама. Он что-то писал, перо мелко и резко прыгало в его гладкой, смуглой руке, тонкий указательный палец, словно надламывающийся при нажиме, был украшен кольцом в виде двух пожирающих одна другую змей. Мне представилось, что эта тонкая, нервная рука, рука музыканта и садиста, подписывает чей-то смертный приговор. Но, приподнявшись на носки, я разглядел, что она всего-навсего переносит корректурные значки с одного оттиска листовки на другой. Контраст подействовал освежающе. Уже более спокойно спросил, как фамилия черкеса.
- Рубинчик,- ответил инструктор, не отрываясь от своих бумаг.
Я вновь обрел форму. В кабинет я входил со спокойной развязностью тяжелобольного. Когда сам играешь, лучше иметь дело с актером. Мы оба играли, вернее, оба фальшивили. В дуэте, где фальшивят оба, диссонанса не больше, а меньше. И меня не смутило, когда в ответ на мое обращение зам резким движением вскинул голову, сверкнул черными навыкате глазами и, прихватив острыми белыми зубами змеисто-тонкую нижнюю губу, воззрил на меня пронизывающий взгляд. Движением руки, словно рассекающим призрачной саблей незримого врага, он указал мне на стул.
Я остался вполне доволен этим рубакой. Все вышло по-моему. Он написал мне направление в госпитальную комиссию и до времени разрешил ночевать в избе седьмоотдельцев за буераком. Вначале он предложил мне отправиться в резерв, где бы меня зачислили на довольствие, но я отказался. Я знал, что своим отказом обрекаю себя на голод, но поступить иначе не мог. Меня пугало всякое отклонение от прямого пути: Анна - Москва. Резерв находился километрах в десяти от города: это оторвало бы меня от железной дороги, близость которой я ежеминутно ощущал, как залог освобождения.
Вместе с тем какое-то сложное, но верное чувство мешало мне тотчас же отправиться в госпиталь. Не пошел я туда и на следующий день, и на третий. Очевидно, меня удерживало смутное ощущение неготовности. Я не понимал, как сделать врачей моими союзниками...
Ожидание всегда мучительно, и время выкидывало со мной удивительные штуки: то оно двигалось с удручающей медлительностью, доводя меня до полного душевного изнеможения, то вдруг делало резкий скачок и разом подводило меня к концу дневного пути, к ночи. Но вскоре и я научился играть с ним. Я выработал в себе изумительную неторопливость, я умудрялся так растягивать любое, самое короткое движение, что урывал у времени значительные куски. Я достигал этого не простым, чисто физическим растяжением жестов, грубым замедлением их, нет, я создал в себе особый, медлительный мир. Словно кровь начинала медленнее течь в сосудах и сердце реже биться. Обычные человеческие сутки составляли не более половины суток, выработанных замедленным ритмом моего организма. Это было одно из тех особых переключений моего психического аппарата, которым я в то время овладел.
Замедлению внешних движений соответствовало замедление психических ритмов, в силу чего я не мог ощущать искусственности первых в момент их свершения. Возвращаясь к обыденному состоянию, я замечал резкий скачок времени.
...Я просыпаюсь на своей шинели. Бросаю взгляд на часы: половина восьмого. Весь предстоящий томительно долгий день - четырнадцать часов голодного, холодного и зудливого бодрствования - вырастет передо мной чудовищной глыбой. Нет сил его прожить. И тут хитрое подсознание делает трюк: мною овладевает медлительное спокойствие, весь мой организм переходит на совершенно иной временной ритм.
Я ворочаюсь, натягиваю штаны, вылавливаю с пояса вошь, смотрю, как она шевелит ножками у меня на ладони, давлю ее двумя пальцами, подымаюсь и снова опускаюсь на шинель, чтоб выкурить папиросу. Все это я делаю со скоростью человека, находящегося под водой. Я выкуриваю папиросу, затем подымаюсь на колени, затем встаю в рост, подбираю с пола шинель и вешаю ее на гвоздь.
Почесываюсь старательно и долго, затем подхожу к печке, расстегиваю штаны, начинаю ловить вшей. Я швыряю их на раскаленную загнетку, некоторые вспыхивают зеленым огоньком, другие только чернеют, обугливаются. Мне хочется, чтобы побольше было зеленых огоньков, для этого нужны самые крупные и твердые экземпляры. Такие находятся на пояснице. Но поймать вошь на пояснице нелегко - надо изогнуть руку, почти до вывиха.
Зуд постепенно слабеет. Вши умны, как собаки: они научились применяться к моим привычкам и характеру. Они знают, что сейчас лучше смириться, и ведут себя тихонько, как ручные.
Заправляю рубашку, натягиваю штаны. Взгляд на часы: прошло сорок минут. Но я ощутил свой подъем не более длительным, чем человек, который вскакивает с постели и двумя-тремя движениями натягивает одежду.
Поздравляю себя с маленькой победой: сорок минут, выкраденных у утра. Они стоят двух часов дневного времени, обладающего более быстрым ходом...
А впереди ждет не менее длительный этап: ополаскивание рук, уборная. Достаю мыло и полотенце. Мыло хранится в обрывке газеты, и когда я пытаюсь развернуть его, бумага рвется и плотно прилипает к мылу. Отдираю бумагу, мыло забивается под ногти. Вот и хорошо - надо вычистить ногти...
Выхожу на морозный, ветреный двор. Ветер обдувает тревожной шумящей прохладой, будит тоску, напоминает о доме и семье. У меня наворачиваются слезы. Пережить эту минуту - одна из самых трудных задач утра. Но мне всегда удается это: ведь после мытья - уборная, а кому неизвестен тот чистый, трепетный подъем духа, какой испытываешь, усаживаясь на стульчак.
Между дверью и крышей уборной - просвет, в нем открывается небо, бледно-изумрудное, сияющее. Красоту небесной лазури особенно остро ощущаешь, когда тебе виден лишь клочок неба. Я начинаю верить, что все будет хорошо. Выход из уборной дарит меня новой радостью: стрелки часов показывают ровно одиннадцать...
Голод также сокращал время, ужасны лишь совершенно пустые часы. Часы голода насыщены разумной и острой борьбой с желанием есть. Длительность их не входила в муку ожидания, а вычиталась из нее. Я знал, когда станет совсем невтерпеж, я пойду к хозяевам избы седьмоотдельцев, и они накормят меня. Не могу понять, как это случилось, но они безвозмездно стали кормить меня обедами. Мне кажется, хозяева удовлетворяли этим сразу два своих чувства: жалостливую доброту и глубоко запрятанное презрение к нашему брату, оставившему их без жилья. Во всяком случае, если знаешь, что любимая тебя ждет, то, затягивая свой приход к ней, испытываешь скорее удовольствие, нежели страданье. Ценность обещанного и неизбежность наслаждения возрастают в твоих глазах с каждым часом, отбрасывая милую тень на часы добровольной оттяжки.
Когда же тень блекла и слюна становилась сухой, как сильно газированная вода, я натягивал шинель и выходил на улицу. Мой путь шел по дну буерака. Ветер был здесь еще злее. Как бы заключенный в сосуд, он бесился, метался, с размаху ударялся о пади буерака, рикошетом отлетал назад. Мне казалось, он дует одновременно с двух сторон.
Ознакомительная версия.