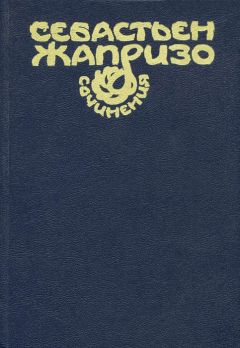Ознакомительная версия.
Путешествие в Париж, впервые в жизни, представляет собою замечательное приключение: иные путешественники не могут справиться с замиранием сердца на перроне вокзала, другие не в силах сдержать слез радостного волнения. Воздух Парижа, бульвары Парижа, крыши Парижа! Само это слово - Париж! - произносится поначалу с восклицательной интонацией, а потом с задумчивой, мечтательной Париж...- так, чтоб сразу стало ясно: Париж, он и есть Париж, и этим все сказано.
Иуда Гросман высадился в Париже на железнодорожном вокзале Гар дю Нор. Перрон весело, как горная речушка в обжитых берегах, бурлил людьми. Иуду не встречали: момент погружения в Париж он хотел пережить сам, без навязчивой помощи.
Проталкиваясь сквозь толпу вслед за носильщиком, Иуда беззастенчиво вертел головой и улыбался всем подряд: молодым женщинам он адресовал улыбку веселую и добрую, мужчинам - дружелюбную, а старикам - мудрую, с горчинкой. Каждый человек, будь он хоть француз, хоть русский, хоть чукча на собаке, требует к себе особого подхода. Иуда знал за собой этот дар - подыскивать ключик к любому замочку.
Некоторые отвечали ему улыбками, некоторые глядели мимо. Мимолетные взгляды не задевали Иуду, он был всецело занят собой, любовь к Парижу наполняла его, а ведь для многих людей любить означает куда больше, чем быть любимым.
Как всякий русский интеллигент, Иуда Гросман задолго до приезда знал Париж заочно - знал его бульвары и площади, знаменитые памятники и знаменитые кафе Монмартра и Монпарнаса, которые, в сущности, тоже были памятниками, иногда прижизненными: вот из-за этого столика разглядывал женщин Мопассан, здесь сидел неприкаянный Модильяни, а сюда заглядывает иногда Пикассо в своем черном берете, свешивающемся на правое ухо. Гений инженера Эйфеля привлекал Иуду в меньшей степени: Эйфель мог и подождать, и уж если на то пошло, то изобретатель Гильотен по-человечески был куда интересней строителя ажурной вышки с его циркулем... Выйдя на привокзальную площадь, Иуда Гросман твердо знал, что поедет он прямиком на Монпарнас.
В первой же попавшейся гостинице оказалась свободная комната, и не было ни желания, ни нужды подыскивать что-нибудь другое. Гостиница "Золотая улитка" помещалась в угловом доме, Иудино окно выходило на бульвар. Иуда отодвинул пыльные тюлевые занавески, распахнул створки окна и выглянул. Бульвар был, как зеленая река, по которой вольно плыли разноцветные предметы: автомобили, люди. Можно было долго стоять здесь, у подоконника, и глядеть, но тянуло и вниз: вмешаться в это движение и плыть вместе со всеми и ото всех отдельно... Иуда потер руки и отвернулся от окна.
В углу комнаты стоял умывальник - почти антикварное сооружение из бачка с медным краником и тяжелого фаянсового таза. Сбоку от двери громоздился расхлябанный платяной шкаф. На стене, оклеенной веселенькими - розовые цветочки, голубенькие бантики - обоями, над кроватью, висел карандашный незастекленный рисунок в облезлой рамке: обнаженная на фоне оконного переплета. Линии рисунка были точные, сильные. Подойдя поближе, Иуда обнаружил масляное жирное пятнышко в углу листа и дату: "1923". Подписи не было. Кровать под рисунком занимала добрую половину комнаты. Разглядывая убранную застиранным шелковым покрывалом парижскую кровать, Иуда Гросман улыбнулся - и увидел вдруг Катю, ее одежду на стуле, ее черные туфли на полу. Потом Катя исчезла, комната вновь наполнилась приятным шумом бульвара, и вполне счастливый Иуда Гросман, не оглядываясь, вышел вон.
Бульвар вел Иуду. Не следовало проявлять норов и выкаблучиваться: подчиняться движению бульвара было легко, оставалось только вертеть головой, глядеть по сторонам и читать вывески и названия угловых улиц и улочек.
На пересечении Монпарнаса с бульваром Распай, на угловом доме Иуда Гросман прочитал "Ротонда" и остановился как вкопанный. Прохожие обтекали Иуду, не обращая на него никакого внимания.
"Ротонда". Значит, вот это и есть "Ротонда". Это ж надо! Первый день, первый час в Париже - и ноги сами принесли его сюда. Ну конечно, кафе "Ротонда" - здесь, на бульваре Монпарнас, как можно было забыть! Через этот порог перешагивали Аполлинер и Гертруда Стайн, Утрилло и Сутин, Дягилев, Фужита и Макс Жакоб. Может, кто-нибудь из них и сейчас сидит за этими стеклами, потягивая винцо и покуривая всякую всячину... Куда ж еще идти Иуде Гросману, знаменитому писателю, как не в "Ротонду"?
Высокие окна кафе были задрапированы изнутри мягко падавшей тканью, меж ее складками, закруглявшимися книзу, не столько виднелась, сколько угадывалась в глубине помещения, в полутьме высокая стойка бара и квадратные столики, окруженные стульями с плетеными спинками. Посетителей было немного, раз-два и обчелся, если только они не жались по углам, вне поля зрения Иуды Гросмана. Это соприкосновение глухой и пустынной полутьмы зала с прозрачно светлым гомоном бульвара, отделенных друг от друга лишь листом стекла, создавали ощущение фантасмагории и нереальности происходящего. Реальной живой фигурой был здесь один Иуда Гросман, и ему сделалось зябко.
Следовало не откладывая войти в кафе, но Иуда медлил. Хотелось продлить, продолжить эту игру в трепет - ведь за тяжелой дверью все сразу встанет по своим местам, за столиками обнаружатся вполне случайные посетители, а тени великих растают и исчезнут без следа. Иуда не спеша прошел мимо входа, потом вернулся. Опрятный старик, колотя тростью с костяным набалдашником, уверенно толкнул дверь и вошел в кафе. Провожая его взглядом, Иуда разглядел за дверью здоровенного молодца в форменной куртке, учтиво поклонившегося вошедшему.
Иуда Гросман повернулся на каблуках и шагнул ко входу в кафе.
Предупреждая усилие посетителя, молодец в куртке плавно потянул дверь на себя. Интересно, проявлял ли он такое радушие, когда замечал приближающегося неверной походкой Амедео Модильяни в драной блузе и жеваной шляпе... Иуда вошел, кивнув вышибале и получив обратный кивок. В Москве бородатые дедушки, служившие при дверях знатных кабаков, кланялись знаменитому Иуде Гросману поусердней и пониже.
Старик с тростью сидел у стойки, взгромоздившись на высокий табурет, еще семь-восемь человек устроились за столиками в глубине помещения. Стены кафе были украшены похожими на хоругви ткаными картинами, на которых ткачи изобразили плывущих среди нежных водорослей рыб с разинутыми ртами и таинственные значки иероглифов. Несколько светильников из-за стойки и на столиках жидко освещали помещение, а задрапированные окна казались размытыми пятнами. В маслянистой полутьме Иуда Гросман прошел в угол и сел там за столик спиной к стене, лицом к залу. Официант появился немедля, Иуда спросил бокал светлого пива.
Посетители чувствовали себя здесь привольно, они сидели в непринужденных позах и разговаривали без запала, как видно, не о течениях и сшибках современной литературы шла речь, а о том о сем, обо всякой всячине. Впрочем, может быть, такое благодушие было проявлением национального характера, кто знает.
На соседнем столике лежала газета, Иуда потянулся за ней, взял и развернул. Все тут было интересно, как на Луне: незнакомые имена, политические сплетни и уголовная хроника, даже палка с прищепкой, к которой была прикреплена газета. А палка зачем? Самое простое - чтоб не украли. Но можно ведь унести и палку, тем более что медная прищепка начищена до красного огненного блеска. Закрывшись газетой и прихлебывая пиво из высокого бокала, Иуда с удовольствием читал французские слова. Про Россию тут ничего не было, как будто такой страны вообще не существовало в природе, и Иуде сделалось немного досадно.
В статье о городском рынке, в промежутках между довольно-таки вялыми и многословными описаниями говяжьих и свиных туш, степенных рыбин, дремлющих в воздушном пространстве, и неподъемных кругов сыра на прилавках, встречались и цены на мясо, рыбу, сыр. Иуда принялся в уме переводить франки в марки, марки в рубли и прикидывать, почем французская отбивная выходит на отечественные червонцы. Получалось недешево. Получалось, что обед обойдется здесь в три, а то и в четыре страницы прозы - в целый рассказ. Мало того, что это было несправедливо - это была просто наглость! Тут уж впору идти побираться, брать шапку и идти. В конце концов если нищенство - это не призвание, а всего-навсего ремесло, что ж поделать, не следует отчаиваться. Писатель может себе позволить быть ремесленником-нищим, потому что его призвание литература, а всё остальное не в счет, в том числе и ремесла. Всё может себе позволить писатель, даже сидеть на паперти, выставив вперед фальшивую культю. Или требовательно канючить на еврейском кладбище, поспевая за похоронной процессией и хватая за полы тех, кто пришел проводить усопшего к месту вечного хранения. Настоящему русскому писателю, будь он даже одесским евреем, не чуждо нищенствование: это неуклюжему телу требуется запасная смена белья, носки и пальто на вате, а душа пишущего человека прекрасно нага и не нуждается ни в шляпе, ни в галошах. Писатель, даже если у него есть дача под Москвой, скорее нищ, чем богат. Но не мешает и дача, когда душа свободна от обязательств, как нищий на углу.
Ознакомительная версия.