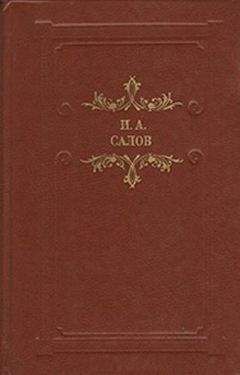— Особливо здесь, на пчельнике!.. — подхватила Матрена Васильевна, выползая из избы, накрытая голубым шалевым платком и, как видно, вслушавшись в слова супруга. — Здесь у нас так хорошо живем словно на даче; тишина, никто не проедет, ни пройдет… только вот собака одна уж очень шибко лает да цепью гремит… а кабы этого не было, так, кажись, кажинную маленькую пташку, и ту слышно было бы, как она распевает!..
Фельдшер только посмеивался.
— Вот ты смеешься! — проговорил Иван Парфеныч: — а ведь это верно… Здесь очень даже хорошо!..
— Я верю! — заметил Михаил Михайлыч.
Немного погодя мы принялись за уху, но не прошло и пяти минут, как, будто вопреки пропетому Матреной Васильевной гимну тишине, царившей на пчельнике, по лесу раздался быстрый топот лошади. Топот этот раздавался по дорожке, бежавшей из села Колычева на пчельник Ивана Парфеныча. Все притихли и с каким-то напряженным вниманием прислушивались к топоту, все ближе и ближе раздававшемуся. Заслышав топот этот, собака опять словно взбесилась. С диким лаем и визгом принялась она бросаться во все стороны, поднималась на задние лапы, но, опрокинутая цепью, принималась грызть эту цепь зубами и в бессильной злобе визжала еще сильнее; раза два вскакивала на будку, опрокинула корытце с помоями, и как ни кричали на нее Иван Парфеныч и Матрена Васильевна, а собака не прекращала своего неистового лая до тех самых пор, пока на площадку не выскакал из окружавшего леса на покрытой пеной лошаденке мужик в белой холщовой рубахе и зимней овчинной шапке.
— Ты что? — спросил его Иван Парфеныч. — Ко мне, что ли?
— Ништо, к вам.
— Зачем?
— Крапивник Агафьи Степановнин у вас, что ли?
Аркашка в одну минуту подскочил к мужику.
— Здесь я! — проговорил он. — Что тебе?
— За тобой. Мамка твоя померла.
Слова эти ошеломили всю компанию, Аркашку же словно кто по лбу обухом ударил. Он пошатнулся, побледнел, оглянул всех испуганным взглядом и стал, как врытый в землю.
— Померла? — переспросили все в один голос.
— Кончилась…
— Давно?
— В обед в самый.
В эту минуту позади нас что-то упало; мы оглянулись и увидали Аркашку, свалившегося на скамью. Злосчастный крапивник, только что восхищавшийся убитыми утками, сидел теперь на скамье и, закрыв лицо руками, заливался каким-то отчаянным воплем.
— Доконал-таки, разбойник! — проговорил Иван Парфеныч и, с негодованием махнув рукой, даже плюнул.
В деревнях, где на смерть и на жизнь смотрят с крайне равнодушной точки зрения (не смешивается ли иногда это равнодушие с геройством?), похороны умерших оправляются большею частию торопливо, без особых затей, так как хлопотать за ними некому и некогда. Всякий живой только о том и думает, как бы поскорее опростать избу от покойника; даже отпевание, и то совершается «на почтовых», как будто покойники эти в тягость и самим попам. Гробы сколачиваются быстро… Всякий заботливый смертный еще заживо припасает себе досок на домовину, чтобы, умерев, не обременять хлопотами оставшихся в живых домашних. Утром человек умер, а к вечеру, смотришь, тащат уже покойника на кладбище, и ленивый поп, лениво махая пустым кадилом, поет с дьячками «Святый боже»!.. Но бывает и так, что даже не из чего домовину сколотить; в степных местностях это случается сплошь да рядом, и тогда начинается беготня из двора во двор; у одного выпросят дощечку, у другого тесинку, и гроб собирается с трудом и кое-как. Мне раз привелось видеть младенца, положенного не в гробик, а просто в ящик с надписью: «Итальянские макароны», да и этот ящик был украден отцом умершего у соседа-помещика.
Не так, однако, устроил похороны своей супруги убитый горем Ананий Иваныч. Гроб Агафьи Степановны был сделан столяром, выкрашен черной краской и обит внутри белым коленкором. Всем этим занимался Иван Парфеныч, который тотчас же после того, как обругал Анания Иваныча разбойником, отправился вместе с Михаилом Михайловичем в село Колычево. Оба они чувствовали, что дело не обойдется без надлежащих поминок, и потому поспешили со словами утешения к растерявшемуся вдовцу. Иван Парфеныч даже не забыл захватить с собою уток, убитых Аркашкой для своей «мамки», справедливо соображая, что дичь эта может разыграть довольно заметную роль за обеденным столом, не говоря уже о том, что хоть некоторым образом будет согласоваться с желанием мальчугана. Ананий Иваныч очень обрадовался, увидав вошедших в комнату приятелей и, заливаясь слезами, принялся крепко обнимать их. Иван Парфеныч поспешил с словами утешения, подтвердив, что рано ли, поздно ли все там будем, а Михаил Михайлыч вздохнул и, отмахнув свалившиеся на лоб волосы, постоял несколько минут в благоговейном размышлении. Затем он подошел к покойнице, взял ее за пульс (причем, по привычке, вынул было карманные часы), приложился ухом к сердцу и, убедившись, что все это перестало биться, подошел к Ананию Иванычу.
— Ну, что? — спросил тот.
Но Михаил Михайлыч вместо ответа только погрыз усы и, поддернув панталоны, вздохнул: готова, дескать!
Затем, сделав еще по одному земному поклону, они перешли в другую комнату, в которой стояла закуска и водка, и печальный вдовец, выпивая сам, усердно просил о том же пришедших разделить его горе. Однако Иван Парфеныч как часто ни прикладывался к графинчику, а все-таки не забывал, что он находится у такого вдовца, у которого хлопотать о похоронах некому, и потому принялся за дело со всею энергиею. Все делалось под его непосредственным наблюдением, и ничто не ускользало от его заботливого внимания. Под его наблюдением ставилось тесто для блинов и пирогов, ошпаривались утки и куры, заготовлялся студень, а когда он узнал, что у Анания Иваныча нет ни гроша денег, то он сам отпер шкаф Агафьи Степановны и, вынув оттуда два шелковых платья и, кстати, захватив лично для себя какую-то коробочку с золотыми серьгами и брошкой, отправился продавать платья. «Покойнице теперь не до нарядов, — рассуждал он: — теперь надо подумать о вечном ее успокоении», и, продав за бесценок платья, вырученные деньги передал Ананию Иванычу, а коробочку с серьгами оставил себе на память.
Из пузырька, принесенного Ваняткой, как я узнал впоследствии, Агафья Степановна успела выпить только одну ложку лекарства, и именно в то самое время, когда мы, проезжая мимо ее домика, остановились поговорить с Ананием Иванычем. От умиравшей не ускользнуло, однако, ни красное, надранное Ванятке ухо, ни вытертые наскоро слезы, но при виде всего этого Агафья Степановна ничего не сказала. Только, приняв лекарство, она погладила Ванятку по голове, долго смотрела ему в лицо своими мутными широкими глазами и потом закрыла эти глаза. Так, с закрытыми глазами, лежала она почти до самой смерти, только перед смертью она их открыла, и то на одну секунду; луч солнца, отразившись в позолоченной ризе иконы, ударил ей прямо в глаза. «Точно тогда зеркало!» — прошептала умиравшая — и вскоре ее не стало.
Часов в шесть вечера пришел поп и приступили к служению первой панихиды. Набралось десятка два вздыхавших старух; встали эти старухи вдоль стенок, а впереди их поместился Ананрй Иваныч с гостями. Поп надел черную ветхую ризу, зажег целый пук желтых пятачных свечей, первую свечку подал Ананию Иванычу, за что тот поцеловал его руку, роздал остальные старухам, поправил съехавшую набок ризу, выправил из-под ризы бороду и волосы, откашлянулся, и панихида началась. Гнездо, свитое Владимиром Петровичем для Агаши, огласилось криком дьячков, наполнилось дымом ладана и копотью свечей, и только одна покойница словно хмурила брови…
На следующий день последовал вынос покойницы.
Я пришел к концу отпевания. В церкви присутствовала почти вся аристократия села Колычева: был здесь местный лавочник, волостной писарь, судебный пристав, учитель сельской школы. Все эти господа, как настоящие джентльмены, пришли под ручку с своими женами в дом Агафьи Степановны и точно так же шли за гробом ее. Приехала и Матрена Васильевна, при виде которой Иван Парфеныч всплеснул руками и немедленно сделал ей выговор, что она совершенно не бережет своего здоровья; но когда Матрена Васильевна объяснила ему, что она долго колебалась, но не в силах была удержаться от желания бросить последнюю горсть земли на гроб друга, Иван Парфеныч даже расчувствовался и похвалил жену за ее любящее, нежное сердце. Дама эта успела нашить себе на черное платье белые плерезы, замаскировала свои раны на голове черным тюлем и, справедливо сознавая свое savoir vivre, [1] гордо посматривала на остальных дам, не умевших одеться прилично случаю. Даже синие фонари под глазами, оставшиеся незамаскированными, придавали лицу Матрены Васильевны какую-то горькую истому, весьма гармонировавшую общей печальной картине. Все эти дамы окружали гроб умершей своей подруги и, держа в руках восковые свечи, задумчиво смотрели на покойницу, как бы воскрешая перед собою всю пройденную ею жизнь. Они вздыхали, крестились и подносили к глазам смоченные слезами платки. Поп в ризе, надетой набок, усердно кадил и каким-то хриплым голосом читал молитвы и делал возгласы. Он поминутно подходил к дьячкам, что-то шептал им и возвращался на свое место — к изголовью гроба. Каждый раз после этих таинственных шептаний дьячки незаметно переворачивали две-три страницы вместо одной и еще громче принимались выкрикивать прекраснейшие похоронные ирмосы.