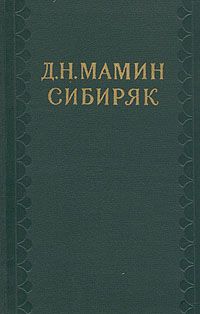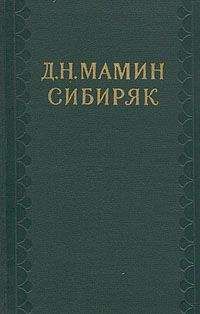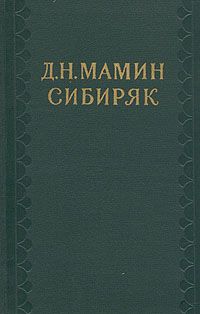Карнаухов остановился, неверным движением поправил спутанные волосы на голове, улыбнулся и тоном не совсем проснувшегося человека проговорил:
- Послушайте, вы к Синицыну не ездите. Синицын - вор...
- Не пойман - не вор, ваше высокоблагородие! - коротко заметил Федя, поправляя широчайшей ручищей выцветший лацкан своей охотничьей куртки.
- Нет, братику, вор! - настаивал Карнаухов, напрасно стараясь попасть рукой в карман расстегнутого жилета, из которого болталась оборванная часовая цепочка. - Ну, да черт с ним, с твоим Синицыным... А мы лучше соборне отправимся куда-нибудь: я, Тишка, доктор, дьякон Органов... Вот пьет человек! Как в яму, так и льет рюмку за рюмкой! Ведь это, черт его возьми, игра природы... Что ж это я вам вру! Позвольте отрекомендоваться прежде! Лука Карнаухов, хозяин Паньшинского прииска...
Заметив мой вопросительный взгляд, Карнаухов торопливо заговорил:
- Да, собственно, прииск принадлежит Миронее Самоделкиной, только Миронея-то Самоделкина принадлежит мне, яко моя законная жена... Теперь поняли? Еще в "Belle Helene" есть такой куплет:
Я муж царицы,
Я муж царицы...
Ах, черт возьми!.. Моя Миронея так же походит на Елену, как уксус на колесо... Ха-ха!.. А мы все-таки, батенька, поедем с вами... Федя, ведь поедем?
- Соснуть бы, ваше высокоблагородие! Три ночи не сыпали.
- По-твоему, значит, я должен удалиться в объятия Морфея?
Федя вместо ответа разостлал на постели Бучинского потертый персидский ковер и положил дорожную кожаную подушку: Карнаухов нетвердой походкой перебрался до приготовленной постели и, как был, комом повалился взъерошенной головой в подушку. Федя осторожно накрыл барина пестрым байковым одеялом и на цыпочках вышел из комнаты; когда дверь за ним затворилась, Карнаухов выглянул из-под одеяла и с пьяной гримасой, подмигивая, проговорил:
- Видели этого дурака, Федьку-то? Ведь дурак по всем трем измерениям, а моя-то благоверная надеется на него... Ха-ха!.. На улице жар нестерпимый уши жжет, а он меня байковым одеялом закрыл. Как есть, двояковыпуклый дурень!
Карнаухов весело и как-то по-детски хихикнул; взмахнул короткими ручками, как собирающаяся взлететь на забор курица, и после небольшой паузы опять заговорил:
- Послушайте... Есть двоякого рода подлецы: подлецы чистейшей воды, как Синицын или Бучинский, и подлецы честные, как ваш покорный слуга, Лука Карнаухов, муж Самоделкиной... Ну, скажите, ради бога, что это такое: муж купчихи Миронеи Самоделкиной... Я теперь послан в ссылку, некоторым образом, а Федька изображает цербера... Ведь я образование высшее получил, голубчик! Как же! Думал даже пользу человечеству приносить! Миронея Самоделкина... Тьфу!.. Послушайте, однако, вы за кого меня считаете? Ну, сознайтесь, ведь подумали: "Вот, мол, дурак этот Лука, сроду таких не видал..." а?
Не дожидаясь ответа, Карнаухов боязливо посмотрел на входную дверь и с поспешностью нашалившего школьника нырнул под свое одеяло. Такой маневр оказался нелишним, потому что дверь в контору приотворилась и в ней показалась усатая голова Феди. Убедившись, что барин спит, голова скрылась: Карнаухов действительно уже спал, как зарезанный.
Погода к вечеру разгулялась; по синему небу белыми шапками плыли вереницы облаков; лес и трава блестели самыми свежими цветами. Природа точно обновилась под дождем и расцветала всеми своими красками. Федя сидел на крылечке и, от нечего делать, покуривал из коротенькой пенковой трубочки. Его потемневшее сморщенное лицо точно застыло в степенном, выжидающем выражении, как это бывает только у хороших собак и старых слуг. В тупом взгляде небольших серых глаз, в уверенной улыбке, в каждом движении чувствовалось какое-то обидное холопское самодовольство. На пороге кухни сидел рыжий "кум", а напротив него, брюхом на зеленой траве, с соломинкой в зубах, лежал Гараська. Все трое молчали, но в выражении лиц и взглядов можно было заметить скрытую глухую злобу. Застарелый холоп ненавидел всеми силами своей души этих вольных людей, как собака ненавидит волков.
- Ну, чего вы чертями-то сидите? - не вытерпел, наконец, старик, когда я вышел на крыльцо. - Видите, барин вышел, ну, шапочку бы сняли. Ах, вы, чертоломы! Ведь с поклону голова не отвалится!
- А ты вот что, милый человек, - растягивая слова, заговорил Гараська своим тенором. - Мы не к тебе пришли, чего ты шеперишься?.. Мы к Фоме Осипычу.
- "К Фоме Осипычу"... - передразнил Федя, сердито сплевывая на сторону. - Знаем мы вас... Не велик еще в перьях-то ваш Фома Осипыч!.. Избаловал он вас, вот что!
- Да ты нешто с того свету пришел, дедушко, чего больно ругаешься-то!.. Мотри, к ненастью...
- А то и ругаюсь, что насквозь вас вижу, всех до единого человека. Все ваши качества вижу.
Наступило принужденное молчание. Со стороны прииска, по тропам и дорожкам, брели старатели с кружками в руках; это был час приема золота в конторе. В числе других подошел, прихрамывая, старый Заяц, а немного погодя показался и сам "губернатор". Федя встречал подходивших старателей самыми злобными взглядами и как-то забавно фукал носом, точно старый кот. Бучинского не было в конторе, и старатели расположились против крыльца живописными группами, по два и по три человека.
- На Майне богатое золото идет, - говорил мужик с окладистой черной бородой. - Сказывают, старую свалку стали промывать, так, слышь, со ста пудов песку по золотнику падает.
- Но-о? - отозвался "губернатор".
- Верно.
- Вишь ты... а?! Старую свалку, говоришь?
- Да... Хотели пробу сделать, а тут богачество.
- Лаадно...
- У Майновских-то, золотников золото в сапогах родится, - ядовито заметил Федя. - Знаем мы, какую на Майне свалку моют... У Синицына, ежели он захочет, и золото из глины полезет. Варнаки вы все, вот что я вам скажу! неожиданно заключил Федя, бросая вызывающие взгляды.
Старатели переглянулись; послышался сдержанный смех. От толпы отделился "губернатор" и неторопливым мужицким шагом подошел к самому крыльцу.
- А ты видал, в каких сапогах майновские-то золотники ходят? спрашивал старик, не спуская глаз с Феди.
- Вы только послушайте ихний воровской разговор, - обратился Федя ко мне, не отвечая на вопрос губернатора. - Спроста слова не скажут... У них и язык свой, как у цыган.
- Ну-ну, дедко, скажи-ко по нашему-то? - спрашивал из толпы бойкий парень в кумачной рубахе. - Гляжу я на тебя, больно ты лют хвастать-то...
- "Принеси мне смолы два, заноза в лесу", - проговорил Федя, опять обращаясь ко мне. - Поняли?
- Нет.
- Ну, а они понимают. Ведь понимаете? - обратился Федя победоносно к толпе старателей.
- А что это значит? - спросил я.
- "Принеси фунт золота, лошадь в лесу..." - объяснил Федя. - Золотник по-ихнему три, фунт - два, пуд - один; золото - смола, полштоф - притачка, лошадь - заноза... Теперь ежели взять по-настоящему, какой это народ? Разве это крестьянин, который землю пашет, али там мещанин, мастеровой... У них у всех одна вера: сколько украл, столько и пожил. Будто тоже золото принесли, а поглядеть, так один золотник несут в контору, а два на сторону. Волки так волки и есть, куда их ни повороти!..
- Ты чего тут ругаешься, Федя? - спрашивал Бучинский, подходя к нашему крыльцу с прииска.
- Да вот, Фома Осипыч, любуюсь на ваших золотников, - отвечал Федя, вытягиваясь во фронт. - Настоящая семая рота...
Бучинский засмеялся и прошел в контору; что хотел сказать Федя последним сравнением, так и осталось неизвестным. Старатели один за другим побрели в контору, а Федя, осторожно оглянувшись кругом, прошептал:
- Этого Фомку беспалого, сударь, мало повесить.
- Как так?
- Да уж так-с... Конечно, барин не занимается приисками, а барыня, Миронея Кононовна, по своему женскому малодушию, ничего даже не понимают. Правду нужно говорить, сударь... Так Фомка-то всем и верховодит: половину барыне, а половину себе. Ей-богу!.. Обошел, пес, барыню, и знать ничего не хочет. А дело не чисто... Я вам говорю. Слышали про Синицына-то, что даве барин говорил? Все как есть одна истинная правда: вместе с Фомкой воруют.
В это время в дверях показался старый Заяц.
- Ну, что, как дела? - спросил я его.
- Не спрашивай, барин... - глухо ответил старик и махнул рукой.
- Что так? Плохо золото идет?
- Нет, золото ничего... Заходи как-нибудь к нам в балаган, покалякаем. А я неделю без ног вылежал... Ох-хо-хо!..
VI
Трудно себе представить что-нибудь оригинальнее уральской летней ночи. Внизу сгустился мрак, и черные тени залегли по глубоким лугам; горы и лес слились в темные сплошные массы; а вверху, в голубом небе, как алмазная пыль, фосфорическим светом горят неисчислимые миры. Прииск потонул в густом белом тумане, точно залитый молоком; огни у старательских балаганов потухли и только где-где глянет сквозь ночную мглу красная яркая точка. Слышно, как бродят по траве спутанные лошади; где-то залаяла собака; бестолково шарахнулась в застывшем воздухе птица и камнем пала в траву. Месяц бледным серпом выплыл из-за горы, и от него потянулись во все стороны длинные серебряные нити; теперь вершины леса обрисовались резкими контурами, и стрелки елей кажутся воздушными башенками скрытого в земле готического здания. Но вот далеко-далеко из тумана встала проголосная русская песня и полилась по всему прииску: