Михаил Осоргин - Времена
На электронном книжном портале my-library.info можно читать бесплатно книги онлайн без регистрации, в том числе Михаил Осоргин - Времена. Жанр: Русская классическая проза издательство -, год 2004. В онлайн доступе вы получите полную версию книги с кратким содержанием для ознакомления, сможете читать аннотацию к книге (предисловие), увидеть рецензии тех, кто произведение уже прочитал и их экспертное мнение о прочитанном.
Кроме того, в библиотеке онлайн my-library.info вы найдете много новинок, которые заслуживают вашего внимания.
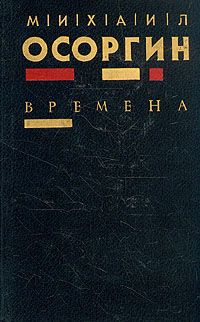
Михаил Осоргин - Времена краткое содержание
Времена читать онлайн бесплатно
Такой, то жуткой, то сладкой и радостной, мути и яви полны мои уфимские воспоминанья, в которых я никогда не разберусь, да и не хочу разбираться. Полудействительные, они вразброд, цветными пятнами развешаны в картинной галерее, куда я иногда убегаю от ясных и разлинованных, аккуратненьких записей взрослой жизни. Они — как цветные шарики, подбрасываемые опытной рукой и мелькающие в воздухе скрещением забавных дуг, как переводные картинки, наляпанные в детском альбоме по системе, понятной только собственнику. Я не люблю калейдоскопа: в нем стеклышки располагаются с обязательством строгой симметрии; много приятнее коробка с разнообразными по величине и окраске, по ободкам, по количеству дырок пуговицами, костяными и перламутровыми, железными и обтянутыми материей, пухлым шариком и сплющенной монеткой; и каждая пуговица — часть портрета того, на чьей одежде она была или будет пришита. Река Белая — действительно белая, хотя и течет в зеленых берегах. А на Деме, в самом устье, летом застревают в песке и тине огромные коряги; в лунную ночь мы высаживались на них с лодки и располагались в живописных группах — по шесть-семь человек на одной коряге. Отмахнув рукой эту ночную живопись, я в узкой и черной лодке с уютным балдахином подъезжаю к разукрашенной цветными фонариками небольшой барке, в центре которой стоит пианино, и между пьяцеттой и островом Св. Георгия слушаю затасканную, но в этой обстановке всегда свежую серенатину, пока гондольер вертит свою сигаретку; потом мы отплываем от слишком сладких звуков в глубины и ответвления большого венецианского канала, потому что сегодня хочется чувствовать себя беззаботными туристами. Поезд пролетает над блюдами и глубокими чашками норвежских сладких вод, и горный поток сталкивает в них завернутые в кружевную пену стволы строевого леса трубочки со сливками в воде червленой стали. По лесному озеру в верховьях Камы мы стараемся не плескать громко веслами лодки, а за нами тянется крепкая бечева с оловянной ложкой, к которой припаян стальной крючок, и схватившая его непуганая рыба дергает с такой силой, что лодка вздрагивает от удара. Последними взмахами покрасневших от холодной натуги рук мы кидаем тело к скалистому берегу, к знакомому уступу, который то выныривает, то скрывается под водой, и, если удалось схватиться, прибой уже не сбросит обратно в волны, а и сбросит — не беда, только понадобятся еще усилия в игре голубыми водами Средиземного моря, ставшего приветливым после стольких лет знакомства. И вот, отфыркиваясь и стараясь откинуть налипшие на глаза волосы, я карабкаюсь на бережок узкой, но глубокой речонки в Звенигородском уезде, таща пойманную щуку за леску, которую пришлось отцепить от путаницы корней на самом дне, — а ради этого как не броситься в воду уже взрослому человеку во всем рыболовном наряде, дорожа минутой и добычей. Это не я швыряюсь — это жизнь швыряется картинами, навороченными ею, чтобы не о чем было жалеть, когда часы начнут бить полночь и склонится фитиль оплывшей свечи. Он всегда со мной, альбом памяти, образов и выдумок. В окно его первого прочного листа вставлен дагерротип на серебряной пластинке, но я не могу разобрать черт лица и не помню, кто на нем изображен. Дальше прозрачной бумагой заклеен карандашный портрет деда по отцу, бритого, в татарской ермолке, халате и с длинным чубуком, — может быть, потому я и люблю татар, что считал татарином своего деда, хотя он был стариннейшего русского рода, гораздо более старого, чем бабушкин. Еще дальше — ряд выцветших фотографий, много раз показанных мне в детстве с непременным повторением: «Это папа, а это папа с мамой, а это мамины папа и мама». На пластинке слоновой кости изображена красками девочка с перетянутой талией, и тот же самый портрет я вижу на обложке книги, изданной о «вещах человека»[14] и написанной там же и тою же рукой, которая пишет сейчас эти строки. Постепенно свежеет бумага фотографий и лица становятся яснее, кринолины сменяются турнюрами и плечевыми буфами, мужские галстуки бантом вытягиваются и прячут концы за вырез жилета, появляются мундирчики школьников и фартучки гимназисток, попадаются чаще люди в очках и пенсне, снятые не в рост, как старались сниматься прежде, а лишь по пояс, и далекое прошлое через вчерашнее делается близким и настоящим. И по мере того как я листаю альбом (или десять, или сто альбомов), мне делается дороже прошлое, в котором так путаются лица и так много глубоких провалов, — чем безупречные отметины настоящего, рассевшегося барином на примятых и намученных плечах. Я перевожу стрелку часов на вчерашний полдень, думая этим обмануть время. Я перестал любить жизнь, — это звучит трагически и актерски, но я действительно перестал ее любить, и причин слишком много, чтобы их перечислять; главная из них — необратимость детских моих воспоминаний к имеющим уши слышать: двери на засове и обиты войлоком. Но я слишком горд, чтобы подавать жалобу в тюремное окошко. В моих детских воспоминаниях отец и мать заслоняют сестер и брата; вероятно, потому, что я был на десять лет моложе брата и на четыре — младшей сестры; между мною и ими была пустота, образовавшаяся смертью двухлетнего Вани, и я был слишком маленьким для их компании. Многое соединило нас позже, уже в годы взрослости, но и это оборвалось на перекрестке дорог: моя увела меня на запад. Я помню в детстве только крашеный пол нашей залы, посыпанный тальком: два раза в зиму у нас собиралась гимназическая молодежь. Но я лишь болтался под ногами — меня укладывали рано спать. Ни тени зависти к старшим — мой мир был особым и чуждым шума: книжки, столярные и слесарные инструменты, пересадка растений под руководством отца, строительство замков ребяческой фантазии. Только одно было общим для нас всех: мелодия пенья. Отец, если не был занят своими бумагами, измышлял какое-нибудь рукоделье (иногда сложное: мы с ним заново обивали мебель, делали рамки для картин, чинили замки, мастерили резные шкапчики) и неизменно что-нибудь напевал. Мать, занимаясь хозяйством, приятным голосом пела романсы, иногда по-польски (она воспитывалась в Варшаве). Брат был по-настоящему музыкален, немного играл на рояле и обладал прекрасным баритоном при абсолютном слухе; любили петь и сестры по преимуществу что-нибудь чувствительное или русские песни. Не отставал и я, легко схватывая мотивы из опер или старинные песни, теперь уже всеми забытые, про Ваньку-ключника[15], злого разлучника, или про то, как «прогремела труба, повалила толпа» и как палач, блеснув топором, показал толпе «ту головушку неповинную», — не знаю, почему у нас в таком ходу были песни арестантские и революционные восьмидесятых годов; может быть, потому, что в нашем городе жило немало ссыльных и от него начинался этапный сибирский путь. Мой репертуар вольных — как говорили тогда — песен пополнился краткой уфимской жизнью, где мои старшие кузины были стрижеными и на берегу Демы распевались студенческие песни; там я впервые был поражен перекличкой «Слушай!» в знаменитой тюремной песне «Как дело измены, как совесть тирана, осенняя ночка темна»[16] — ее любил напевать и мой отец, чиновник и член уголовного суда. Я думаю, что не словами, а звуками была вспахана во мне почва для будущих благодатных всходов (благодатных — это совсем серьезно!), вызревших позже в тюрьмах, ссылках, при всех режимах и всех обстоятельствах, — и так до сего дня; как обидно, что сей день — уже закатный! Если бы можно было повторять путь пройденный, я повторил бы его без колебаний, не потому, что он хорош, а потому, что иного перед нами не было и неизбежностью своей он до конца оправдан. Голосом старческим певала и моя няня Евдокия Петровна — про стоявшую во поле березоньку и про не белы-то снеги; только на свой лад и своим мотивом. Отчасти эта ее музыкальность была причиной того, что я, еще четырехлетним, собирался на ней жениться, но получил отказ и ломтик арбуза с правом проглотить косточки. В третьем классе гимназии я завел гармонию и играл на ней как виртуоз, с таким дрожанием звуков, что младшая сестра даже плакала: она очень любила вальс «Невозвратное время». Но меня не учили музыке, так как несколько хромала моя латынь.
Время, конечно, невозвратное, но плакать не о чем. Внезапно, по смерти отца, наша семейная жизнь свернулась: исчез зимний сад, комнаты стали маленькими. Брат был казанским студентом, две сестры вышли замуж и уехали. Их жизни не входят в эту повесть о самом себе. Не связанный хроникой, я крутым поворотом возвращаюсь к первым дням гимназической учебы, к фуражке с огромной тульей и гербом, к ранцу с бело-желтыми разводами то ли оленьей, то ли коровьей стриженой шкуры, к длинному, на рост, пальто, в полах которого путались ноги, к грубой шерсти башлыку, который у маленьких напяливался на фуражку, у старших, в сложенном виде, защищал только уши, а у семиклассных и восьмиклассных стариков заменялся белым, кокетливым и красивым, треугольно опускавшимся на спину, а концы висели спереди свободно — немалая вольность. Ноги зимой в глубоких резиновых калошах, хотя и в них пальцы зябли, не то что в валенках, не полагавшихся по форме. И хотя нас рядили солдатиками — сальной пуговкой, как звали нас уличные мальчики, — и хотя обучали военной гимнастике и сдваиванью рядов, но зато не соблазняли сознания позднейшей бойскаутской дребеденью, нашивками, знаменами, дисциплиной и девизом «Будь готов», — может быть, просто по глубоко штатской провинциальной лени. Все мы, школьники, наши родители, наши учителя, — вся страна знала, что гимназия есть необходимое зло, что в ней усердно преподается то, что не нужно и не будет нужно, и опускает все то, что может понадобиться в жизни. Мы обламывали зубы о латинские и греческие орехи, склоняли, спрягали, учили назубок исключения, старались запомнить, сколько легионов отправлено Цезарем туда-то и как протекали анабазис и катабазис[17]; мы навсегда отпечатывали в мозгу пифагоровы штаны, генеалогию прародителей, призвание варягов, происшествия в семействе Романовых, мысы, носы, полуострова и проливы, стрекозу и муравья, с одинаковым усердием затверживали «андра мой эннепе», «не лЬпо ли ны бяшетъ»[18] и слова с буквой ять, — но, окруженные почти девственными лесами, не обязывались отличать злака от овощей и слизняков от млекопитающих: естествознание было изъято из гимназической программы, за исключением легенды о земных тварях, попарно втиснутых Ноем в его достопамятной ковчег. В нашем «физическом кабинете», где мне довелось побывать лишь раз, вращался стеклянный круг перед площадкой, сев на которую можно было ощущать, как дыбом подымаются на голове волосы: граница наших физических познаний. В изучении российской словесности мы были прочно прихлопнуты крышкой гоголевской Коробочки, зная по слухам, что Гончарова звали Иваном Александровичем, а Кольцов был прасолом. Затем нас отправляли по университетам. Но было во всем этом одно преимущество: полное сознание, что гимназия не способна ничему научить и что поэтому каждый, не желающий остаться неучем, должен учиться сам, не считаясь с программами и не обращаясь за советом к протухшим и спившимся с круга учителям. А когда к нам ненароком попал в учителя греческого языка будущий профессор истории Николай Рожков, выражавшийся членораздельно, мы приняли карельскую березу марксистского лба за подлинные сократовы шишки, и немалая часть его учеников уверовала в прусского бородатого бога. Мне было не трудно учиться; поступая в первый класс гимназии, я уже знал начала латинской грамматики, так как был подготовлен матерью. Но к одному не мог быть подготовленным в семье: к бессмыслице гимназического преподавания, и она была для меня источником великих страданий. Я легко решал арифметические задачи с многозначными числами, но столбенел и терялся, если в их условии говорилось, например, о крестьянине, купившем кусок шелковой материи в 427 аршин и 3 вершка по 4 рубля 81 копейке за аршин, из которых 1 аршин 17 вершков он истратил на кафтан, 221 аршин 1 вершок на юбку жены и остаток обменял на овес, приплатив 11 копеек, сколько пудов овса он получил, если пуд стоит 53 рубля 20 копеек? Я приставал к матери с вопросами, зачем крестьянин шил кафтан из шелка и почему так много пошло на юбку? Она старалась убедить меня, что это только так, для трудности, и что крестьянин тут ни при чем, а нужно просто вычесть кафтан и юбку из куска, помножить на стоимость аршина и разделить на стоимость овса, — но я так не мог, мне мешало лицо крестьянина, хозяина нашей дачи в деревне Загарье, зимой носившего меховую шапку, и я не мог представить себе его жену в такой огромной шелковой юбке. Когда же мы заучивали наизусть — Авраам роди Исаака, Исаак роди Иакова, Иаков роди Иуду и братьев его, Иуда роди Фареса и Зару от Фамари, — никак я не мог проникнуться святостью Евангелия от Матфея, так как невольно представлял себе нашу кошку, котят которой дворник трижды в год уносил топить. Я был очень способным дома, когда мать готовила меня к поступлению в гимназию, тем более что присутствовал при ее уроках со старшими детьми, многое запоминал и после воспринимал легко; но гимназия не только убивала всякую жажду знания, но и развивала тупость восприятий. Помню, как однажды, не одолев какой-то юбки в 200 аршин и зубрежки грамматических исключений, я почувствовал себя глубоко несчастным, заживо замученным и осужденным на гибель человечком, лег на пол, разрыдался и так заснул. Я лежал в той яме, где арестант высосал корову, и боялся поднять голову, так как меня преследовали Иуда и братья его и хотели заставить писать мелом на черной доске, и это были древляне, которые привязали к верхушкам деревьев Святополка Окаянного за то, что он не решил задачи, и теперь хотели так же разорвать и меня. Лежать было очень холодно, лодку качало, под голову забралась скользкая рыба, пальцы мои были перемазаны в чернилах, и я стал тоненьким голосом звать мать, а громче крикнуть никак не мог, что-то застряло в горле. Вдруг стало хорошо, точно пригрело солнцем; мать подняла меня, довела до постели, и я опять заснул крепко, сладко и без страшных снов. После этого несколько дней меня не пускали в гимназию и не заставляли учить уроки, — и этих дней было достаточно, чтобы вдруг все стало гораздо проще, Фарес и Зара прочно утвердились в памяти, а Святая Ольга мне даже понравилась своей замечательной хитростью, и я перешел во второй класс с похвальным листом. Вглядываясь в даль жизни, я вижу себя в Неаполе очень жарким летом, в дрянном отеле. Я приехал по делу, но еще в поезде почувствовал страшную головную боль, свалившую меня в постель. Со мной не было никаких лекарств, и не было сил поднять голову, встать и позвонить. Мигрень дошла до такой степени, что я, навалив на голову подушку, выгнул тело, напрягся и старался воткнуть голову в твердый тюфяк. Думать ни о чем не мог, но весь был проникнут ощущением своего одиночества и грядущей гибели, глухо рычал в подушки и боялся переменить положение. Потом на какое-то время я потерял сознание, а когда очнулся, боль сразу ослабела и еще через несколько минут совсем прошла. Я встал с осторожностью и боязнью, увидал, что за окном уже темнеет, почувствовал голод, — и этот вечер в Неаполе был самым приятным и очаровательным за мое долгое знакомство с нелепейшим из итальянских городов. Было поздно идти по делам, знакомых не было; я поднялся фуникулером на Вомеро, дошел до монастыря Камальдоли и смотрел оттуда на Неаполитанский залив и на город. Я совсем не был одинок, всюду горели огни, зажженные людьми, меня окружал живой мир необыкновенной красоты, и уже в полной темноте я угадывал знакомые очертания берегов, городков и двугорбого Везувия. Радостно изумляясь своему блаженному состоянию, я уголком мозга вспомнил такой же странный переход от ужаса и кошмара к покою и ясности — это было связано с муками гимназистика и как будто пригрезившейся материнской лаской. И когда в Москве я лежал на заплеванном полу Всероссийской Чека, в так называемой конторе Аванесова, ожидая отвода для меня и других более уютного помещения, была минута, когда мне хотелось умереть от отвращения к глупому обезьяньему миру; увидав доску, лежавшую под нарами, на которых мне не нашлось места, я подложил ее под голову, заснул, а через полчаса уже улыбался, когда дородный сытый латыш, разводивший нас по камерам, на ломаном языке назвал «несознательными буржуями» меня и моего товарища, поделивших годы своей молодости между тюрьмами и эмиграцией. Нужно только немножко отдыха, немножко отдыха, — и опять можно жить и даже смеяться. Если бы, падая с отвесной скалы, мне удалось уцепиться за ветвь дерева, над ней нависшего, и тем отсрочить гибель, — я бы, думается, нашел время полюбоваться прекрасным видом на окрестности. Почему же жизнь не дает нам больше таких передышек? К концу учебного года, утомленные нелепостями и зубрежкой слов, имен, правил и формул, пропитанные дрянным воздухом гимназии, мы держали еще экзамены, проигрывая весну и лучшее молодое солнце; и все же наступал наконец день, когда Малинины, Буренины и Евтушевские[19], негодуя и раскорячившись, летели под стол или рвались в клочья и мы кубарями скатывались с обрыва к реке и докрасна обжигались на беспощадном солнце. Только три месяца каникул и были подлинной жизнью; остальное время — бездарным и злым издевательством над маленькими будущими людьми. Поразительная страна! Ее тюрьмы были образцовыми школами, рассадниками не только сознательности, но и образования; ее средние школы — во всяком случае в провинции — были подлинными тюрьмами, с восьмиклассной пенитенциарной системой. Какое плодородие почвы и какая крепость духа потребовались, чтобы эта страна, вздрогнув и потряся весь мир, не надорвала себе сердца!
Похожие книги на "Времена", Михаил Осоргин
Михаил Осоргин читать все книги автора по порядку
Михаил Осоргин - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки My-Library.Info.




