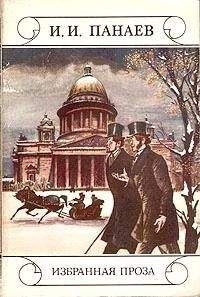Весной и летом Петербург ей казался просто нестерпимым, потому что в это время всегда живее воскресали в ее памяти и бесконечное поле, волнующееся рожью, и лес, дышащий смолистой, благоуханною свежестью, тот лес, в котором она, бывало, собирала грибы; и речка с крутыми и живописными берегами, в которой деревенские мальчишки ловили раков, и гумно, гладкое, уставленное скирдами хлеба, и ряд почернелых изб, и плетень при въезде в деревню, и праздничные хороводы крестьянских девок, и заунывная песня мужика, возвращающегося с барщины… Все, все… Сердце Лизаветы Ивановны так и ныло, так и разрывалось при этих воспоминаниях. Что касается до Евграфа Матвеича, он находил много хорошего в Петербурге. Ему нравились, например, блестящие магазины Невского проспекта, и он часто останавливался перед ними и думал: "Пустая роскошь, а для глаз приятно".
Еще ему нравился в Петербурге турецкий табак дюбек Саркиса Богосова, по 5 рублей фунт; но более всего нравились ему Милютины лавки. "Тут все, — рассуждал Евграф Матвеич сам с собою, — что душа просит: и балык, как янтарь, и фрукт сочный, румяный, и окорок провесной, жирный, и киевское варенье, и пастила яблочная, и сыр швейцарский со слезой, и икра зернистая свежая, и лук шпанский, и эти масляные рыбки в жестяных коробках… как бишь их… ну, да словом сказать, все, все!.." И он, бывало, никогда не проходил мимо Милютиных лавок, непременно зайдет в свою знакомую лавку и отведает то того, то другого: то солененького, то сладенького, то кисленького, полюбуется то тем, то другим; понюхает то того, то другое, спросит:
— А это, братец, что у тебя такое в баночке?
— Мармолат, ваше превосходительство.
— Ну, а там, вон направо, в бочке-то?
— Виноград, ваше превосходительство.
— А! дай-ка, братец, кисточку винограда. Ну, а вон, в углу-то… четвертая от угла банка… это что такое?..
И Евграф Матвеич, по обыкновению, долго не отводил страстных очей от всех этих жестянок, склянок, банок и бочек и, при каждом посещении лавки, отыскивал в ней что-нибудь новенькое, что-нибудь замечательное.
Покорясь необходимости и помаленьку устроясь, Евграф Матвеич и Лизавета Ивановна нашли нужным продолжать воспитание дочери. Они наняли для нее танцмейстера, компаньонку, которая называла себя француженкой, а была из немок и могла давать уроки на фортепиано, и учителя русского для всех наук.
В семнадцать лет воспитание Кати было совершенно окончено. По-французски хотя она и не говорила отлично, но могла поддержать обыкновенный разговор, танцевала очень недурно, вальсировала довольно легко и разыгрывала на фортепиано бальные танцы довольно бегло. Чего же больше?
Итак, наступила торжественная минута в жизни моей барышни. Ее надобно было вывозить в свет.
Какой-то приговор произнесет свет над моею барышнею?
Лизавета Ивановна, разумеется, вскоре по своем приезде в Петербург познакомилась со многими дамами так называемого среднего круга. Для нее это была горькая необходимость, жертва, которую она безропотно приносила дочери нежно любимой, ибо в обществе всех этих петербургских барынь, отпускающих французские фразы, беспрестанно толкующих о княгинях и о графинях, о последних модах и о хорошем тоне, Лизавете Ивановне было тяжело и неловко. Она не умела принимать участия в их тонких и любезных разговорах, не вмешивалась в их прекрасные рассуждения о нравственности и приличии, не могла сочувствовать, ни их интересам, ни их сплетням. Безмолвно слушала она этих барынь и, смиренно сознавая собственное ничтожество, только удивлялась их уму и образованию. Ее поддерживали и выручали в самые критические минуты карты, потому что все эти умные и светские барыни, подобно моей Лизавете Ивановне, были охотницы играть в преферанс по десяти копеек медью.
Лизавете Ивановне хотелось пристроить свою Катеньку за хорошего и солидного человека. Это очень понятно: ведь не век же ей было сидеть под крылышками папеньки и маменьки. Зачем же и на воспитание барышень тратятся родители, как не для того, чтоб этим воспитанием приманивать женихов? И Лизавета Ивановна очень справедливо рассуждала, как рассуждают все маменьки, что, только вывозя дочку в свет, можно надеяться устроить ее участь; но она, по простоте своей, никогда не решилась бы прибегать к тем средствам, к которым иногда прибегают отчаянные петербургские маменьки для сбывания с рук своих дочек. Ей не пришло бы, например, в голову заставлять дочь кокетничать и употреблять все роды соблазнов перед каким-нибудь беспутным богачом оттого только, что тот однажды, и то нечаянно, навел в театре лорнет на их ложу; она не стала бы разглашать по всему городу, что ее дочь выходит за г-на N. N., когда г. N. N. и не думает о ее дочери, и не решилась бы поддерживать своего кредита в магазинах именем этого гна N. N.; она не могла бы обещать жениху своей дочери и капиталы и деревни в приданое, а после брака объявить зятю и дочери, что она покуда, к сожалению, ничего не может дать им, а что со временем, если позволят обстоятельства, и прочее, да еще в довершение всего заставить легковерного зятя заплатить за венчальное платье…
Все это казалось Лизавете Ивановне просто несбыточным, и она говорила с свойственным ей простосердечием:
— И верить не хочу, чтоб были на свете такие матери…
Но обратимся к барышне. Уж близка решительная и желанная минута ее жизни.
Сегодня бал у одной из тех генеральш, с которыми знакома ее маменька. Бал!.. О блаженство. На этом бале она первый раз предстанет свету! Сердце ее бьется и замирает; ей мерещится то золотой, то серебряный эполет; перед ней уже, кажется, трепещут аксельбанты… ах, как она любит аксельбанты! Ей слышатся порою звуки вальса и бренчанье шпор… А часы идут так медленно, досадные часы!.. А уж бальное платье готово… вот оно висит на стуле; и какое платье, если б вы видели! и как обрисовывает роскошные ее формы! Парикмахер-француз уже причесал ее; на ее темных волосах белая роза… Барышня то посидит на стуле и помечтает, то подбежит в волнении к зеркалу…
Маменька и папенька в такой же тревоге, как и она.
— А что, хорошо ли, голубчик, будет одета наша Катенька? — спрашивает с беспокойством папенька у маменьки.
— Не знаю, дружочек, — отвечает вздыхая маменька, — но на ней будет все хорошее и дорогое; все, кажется, так, как следует; а впрочем, бог знает…
Вот наконец барышня совсем одета… Боже мой! какая у нее талия! но она еле дышит, бедная барышня.
Маменька уже несколько раз осмотрела ее с ног до головы. И папенька начинает ее осматривать.
— Мило, мило, — замечает генерал, — да только, мне кажется, грудь-то уж очень открыта. Прилично ли это?
— Ах, папа, — восклицает барышня, — какие вы смешные; да ведь все так носят…
Бал великолепный. Все, как водится: и в зале накурено одеколоном, и лампы горят довольно ярко, и много генералов военных и штатских со звездами, и музыка гремит, и мороженое разносят, и расплывшиеся барыни в чепцах сидят кругом стен, и барышни, нарядные и перетянутые, прыгают под музыку с офицерами. Царицы бала — две дочери хозяйки, Sophie и Lise, полненькие и беленькие, с томными глазками.
Они слывут красавицами; от них с ума сходят мои приятели-офицеры, и о существовании их знают даже в высшем свете… Штатских немного, человек пять, да и то один из них не танцует, а ходит по комнатам, беспрестанно зевая (хотя ему зевать совсем не хочется), и иногда приставляет к глазу лорнет, с равнодушной и несколько презрительной гримасой посматривая на барынь, на барышень, на кавалеров, на потолок и на стены. Он всем хочет показать, что случайно попал в это общество, которое гораздо ниже его… Говорят, будто этот господин в самом деле принадлежит к высшему свету, — что мудреного! Не даром же хозяйка дома более всех ухаживает за ним.
Ослепленная и пораженная блеском бала, барышня робко вступила в залу.
"Ах, сколько здесь офицеров! — подумала она. — Ах, как здесь должно быть весело!" Но она не смела ни на кого взглянуть. Она проходила через залу, покраснев и потупив головку. И взгляды всех обратились на нее, как на лицо новое…
— Это еще что такое? Кто это такая? — спросила глухая и брюзгливая старухабарыня у своей соседки, показывая на барышню и неблагосклонно осматривая ее с головы до ног в лорнет. (У брюзгливой старухи-барыни пять дочерей — пять! и ни одна не замужем!) — Кто же это такая, матушка?.. а?
— Это, кажется, дочь Ветлиной, — закричала ей на ухо соседка…
— Какая жирная! — пробормотала себе под нос старуха. — Как раскормили ее!.. (У брюзгливой старухи-барыни все пять дочерей тонки, как спички.) — Ах, ma chere, — говорит одна барышня другой барышне, смотря на мою барышню прищурясь, — взгляни, бога ради, как она затянута… Бедная! на нее смотреть жалко… Вот уж не понимаю, что за охота так тянуться…
А барышня, говорящая эти слова, сама до того затянута, что ей нет никакой возможности наклониться; в продолжение бала ей уже делалось три раза дурно.