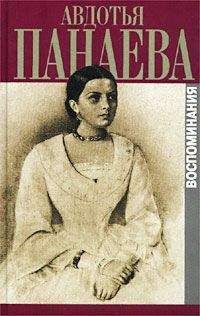Пока гувернантка пристально рассматривала в зеркале свое лицо, платившее ей тем же, я усердно вдергивала в корсет новые красные веревки, снятые с пучка перьев (никакие другие не выдерживали тяжкого испытания, нередко ослабевая и лопаясь в самые роковые минуты)… Гувернантка неохотно отошла от зеркала: ей, повидимому, очень нравилось лицо, таращившее на нее глаза с бесконечным упоением. Началось стягивание: я тянула ее с невероятным рвением, пока она чуть не разделилась на две половины; ее шея и лицо, несмотря на целую коробку истраченной на них пудры, побагровели… Надев бесчисленное множество юбок, она облачилась в белое кисейное платье с таким лифом, что если б не шнурок, поддерживавший его на плечах, он непременно упал бы окончательно. Но шнурок, впившись в ее пухлое тело, совершенно исчезал в нем: так была сильна мера предосторожности, внушенная скромностию! Окончив туалет, гувернантка отпустила меня к Степаниде Петровне, а сама приступила к украшению ушей и пальцев своих разными серьгами, перстнями и кольцами. Степанида Петровна и ее сестра, увидев гувернантку, пришли в такую ярость, что приняли ее наряд за личное оскорбление и голосом сконфуженной невинности закричали:
– - Ma chere, нам стыдно будет за вас!..
Советы и упрашивания надеть "modestie" {Буквально: скромность. Здесь означает, повидимому, кисейную косынку, закрывающую голые плечи (ред.).} полились рекой, но гувернантка только получила новую уверенность в несокрушимой прелести своего наряда: она знала завистливых тетенек… Процесс туалета тетенек был тот же, как и у гувернантки, с тою только разницею, что они не привязывали себе кос, которые у них были собственные. Турнюр тетушек значительно увеличился, а лифы они подшили так, что скромность гувернантки, в свою очередь, могла оскорбиться… Не скоро, вероятно, кончился бы их туалет, если б нечаянный аккорд музыки не возвестил, что пора. Все засуетились, заахали, гувернантка кинула в зеркало прощальный взор своему встревоженному лицу и, собрав нас всех, готовилась двинуться в залу. Тетушки еще раз провели по лицу красной суконкой, отчего румянец ярко взыграл на их щеках, и тоже примкнули к нам…
Мы вошли в залу, ярко освещенную; гостей уже было много. Увидев маменьку, великолепно разряженную, тетушки перемигнулись и пожали плечами, вероятно соболезнуя о заблуждениях своей старшей сестры. Начались танцы; точно назло тетушкам и гувернантке, нас беспрестанно ангажировали, -- даже одну кадриль я танцовала с адъютантом. Я сидела возле Степаниды Петровны, когда он подошел ангажировать… Степанида Петровна не сомневалась, что ее, -- тотчас начала натягивать перчатки и даже немного привстала со стула, но, задрожав, рухнулась на него обратно, потому что я в ту минуту в ответ на приглашение поспешно подала руку своему кавалеру… Я стала vis-a-vis {Визави, напротив (ред.).} ее… Она сидела как на иголках, кидая кругом грозные взгляды, предвещавшие что-то недоброе… А Кирило Кирилыч в то же время будто назло маменьке любезничал с сестрами и все танцовал с ними… Маменька рассердилась и даже сказала:
– - Не пора ли детям спать, а то они мешают.
Тетушки и гувернантка только того и ждали: тотчас нам приказано было отправиться в детскую. Мы чуть не плакали, и гувернантка, вероятно опасаясь нашего покушения возвратиться в залу, лично присутствовала при нашем раздевании и, отобрав у нас башмаки, а у братьев сапоги, заперла все к себе в комод… Положение наше было ужасно! Говор, шарканье и музыка не только не давали нам спать, но томили и мучили нас… Когда ж до нас долетел визг и хохот масок, мы все разом, будто по команде, вскочили с постелей и кинулись к дверям залы… Б одну секунду старшие заняли лучшие места, а младшие -- кто, с помощью стула, очутился над головой, кто, скорчившись, приютился у ног старших, -- и все жадно впились глазами в щель, сквозь которую выходила яркая полоса света… Вдруг… о ужас! Увлеченный эффектом зрелища, кто-то сильно налег на дверь… Дверь с шумом раскрылась, и мы попадали на пол залы, стулья тоже, -- одна старшая сестра успела укрыться… Гости кинулись к нам, но, забыв со страху боль, мы вмиг все разбежались и с сильно бьющимися сердцами кинулись на свои постели. Но быстрота бегства не спасла нас. Стулья, распростертые в дверях, как руины, свидетельствовали, что здесь процветала жизнь; гувернантка не сочла нужным входить ни в какие расспросы, прямо скомандовала нам всем встать с постелей; мы встали; прочитав краткую мораль, в которой обещала нас завтра оставить без чаю, без обеда и без ужина, она расставила всех по углам. Потом, заперев на ключ дверь в залу, она ушла через прихожую вновь предаваться упоительному вальсу.
Такая мера лишила нас последней возможности наслаждаться праздником, так долго ожиданным… Единодушно, почувствовав угнетение, мы разразились проклятиями на гувернантку… Брат Миша кинулся к ее постели, все за ним, и в минуту постель перевернута вверх дном; стащив на пол перину, мы били ее, топтали ногами, плевали на нее с таким остервенением, будто в наших руках была сама притеснительница. Утолив первый порыв злости, мы начали хладнокровно придумывать мщение. Посыпали сором и полили водой ее кровать, напускали в нее прусаков и других насекомых, подушками вытерли весь пол… Наконец, прикрыв все одеялом, мы успокоились, но брат Миша сказал, что еще ей мало: он придумал заманить ее в детскую и в темноте подставить ей "ножку". Мы приняли его выдумку с восторгом; он славился искусством подставлять ножку: как подкошенный колос, падала его жертва! Мы погасили ночник, а маслом от него полили путь, по которому неизбежно приходилось цроходить гувернантке. Миша притаился у двери. Мы, чтоб привлечь жертву, взялись за руки, составили круг и с неистовыми криками, визгом и свистом пустились скакать и вертеться, как исступленные; волосы наши развевались; почти неодетые, мы походили на диких, которые плясками готовятся к жертве. Родные звуки скоро долетели до слуха гувернантки; вырвавшись из рук своего кавалера, она кинулась в детскую,-- мы уже тихо лежали в постелях, когда, раскрыв дверь и сделав шаг за порог, она с визгом растянулась на полу… Мы едва дышали: некоторые из нас вскрикнули, будто спросонья… Люди принесли огня; гувернантка, кинувшись к свечке, дико и с ужасом начала осматривать свое платье, покрытое маслом, и чуть не заплакала… Несчастие это так поразило ее, что она лишилась теперь даже обычной своей догадливости… Сначала она пробовала разные меры, но скоро с горестью убедилась, что нет никаких средств исправить платье, а так явиться нельзя… Она разделась с отчаянием и, чтоб чем-нибудь вознаградить себя, приказала всем нам стать на колени возле ее кровати… Счастливые удачей, мы окружили ее с удовольствием. Она беспрестанно вертелась на своей кровати, музыка душила ее, она готова была отдать полжизни, чтоб снова явиться в залу, но платья другого не было, и она закрывала глаза, усиливаясь заснуть… Мы жалобно пищали на разные голоса: "Mademoiselle, pardonnez-moi", {Мадмуазель, простите меня (ред.).}и, кажется, первый раз наши вопли, которые она прежде слушала с явным наслаждением, терзали ее. Она сердилась, запрещала нам просить прощения, но мы нарочно усиливали наш писк, -- мы все пищали, один брат Миша странно хрипел, выговаривая: "pardonnez-moi". Наконец она потеряла терпение и отпустила нас, пообещав расправиться с нами завтра. Мы улеглись, но долго еще шептались, передавая друг другу подробности нашего торжества. Гувернантка тоже не спала, долго кашляла и вертелась, от сильных ощущений бала или от последствий несчастного падения -- не знаю; а может быть, и наши переселенцы способствовали ее бессоннице. Мы же в первый раз в жизни заснули, безотчетно чувствуя в себе какую-то гордость и силу…
На другой день гувернантка все разузнала и всех оставила без обеда; брата Мишу она покушалась наказать построже; но он так погрозил ей отмстить, что она увидела невозможность бороться с таким врагом и объявила маменьке, что не в силах справиться со старшими мальчиками… Мишу отдали в гимназию. Надев мундир, он стал еще высокомерней. На меня и меньших братьев даже нагнал страх: он беспощадно ломал нам руки, щипал и бил нас жгутом, а тетушкам и гувернантке грубил на каждом шагу… Успехи его в науках шли плохо, зато умел он делать коробочки, придумывать загадки, играть в три листа, чему и нас всех выучил. Еще любил он и легко заучивал стихи. Ходил он в гимназию неохотно, всегда в сопровождении собак, которых приманивал костями, наполнявшими его карманы, -- шел не иначе, как посреди улицы, оглядываясь с удовольствием на бегущую за ним стаю. Выбрав удобное место, он выбрасывал кости, уськал голодных собак, собаки с жадностью бросались на добычу, рвали ее друг у друга, шипели, оскаливались и грызлись. Брат забывал все: присев на тумбу, он страстно следил за битвой, -- если ярость собак ослабевала, снова раздражал их и любовался… Так, изучая характеры собак, он нередко пропускал класс, и собаку победительницу, самую дерзкую и азартную, награждал в знак отличия куском говядины… Около того времени к тетушке Елене Петровне присватался жених, очень некрасивый, ничтожный и бедный: он рассчитывал на приданое невесты и на протекцию нашего отца. Предложение свое сделал он через сваху, а сам не показывался. Но тетенька Елена Петровна готова была выйти хоть за обезьяну: так хотелось ей иметь мужа; а маменька радехонька была сбыть свою сестру за человека, который не мог оскорбить ее самолюбия своими достоинствами. Таким образом, сваха не успела заикнуться, как уже дело и сладилось… Приготовления к принятию жениха сопровождались страшной суетой. Наконец он явился. Весь красный, как вареный рак, низенький, с вечной улыбкой, по милости которой один угол его кривого рта постоянно пребывал под ухом, с тупым и маслянистым взглядом. Маменька отрекомендовала жениха Елене Петровне, видевшей его в первый раз, и с того дня она стала считаться невестой… Зависть к тетушке-невесте совершенно изменила гувернантку: она стала невнимательна в классе, все о чем-то думала; мы безнаказанно грубили тетушкам Степаниде и Елене Петровне. Раз они за меня поссорились с гувернанткой. Невеста приказала мне стянуть ей платье, я отказалась: она оставила меня без чаю; я рассердилась и сказала, что мы ждем не дождемся, когда бог избавит нас хоть от одной тетушки, и обещала поставить свечу Николаю чудотворцу, когда ее не будет. Слезы брызнули из глаз чувствительной невесты. Сестра ее не выдержала и, как ястреб, распустив когти, хотела вцепиться мне в волоса, но я успела спасти их, быстро накинув себе на голову передник… Бледная от злости, Степанида Петровна стучала мне в голову кулаком так, что искры сыпались у меня из глаз, но я нарочно смеялась и уверяла, что мне совсем не больно… И она также расплакалась и требовала, чтоб гувернантка строго наказала меня; к удивлению моему, гувернантка сделала мне очень деликатный выговор -- и только. Невеста и сестра ее возмутились легкостью наказания и приписали такое потворство зависти к чужому счастию… Гувернантка, зардевшись как зарево, с презрением объявила, что не стоит такой дряни завидовать, а если захочет, то найдет себе жениха получше и поумнее… Такой презрительный отзыв о женихе тетушки привел сестер в страшную ярость. Вспыхнула жестокая ссора, которая легко могла кончиться кровопролитием, но, к счастию, подоспела тетенька Александра Семеновна и разняла их… На другой день маменька выслушала две жалобы: обе стороны доказывали, что они обижены…