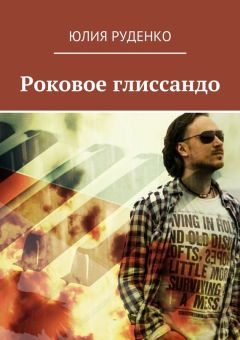– Ослиный праздник. Это заглавие. Представляется мне в виде новеллы, что ли. Тема моя отыскивается этак веков за пять до нашего времени. Место? Ну, хотя бы деревенька где-нибудь на юге Франции: сорок – пятьдесят дворов; в центре старый костел, вокруг виноградники и тучные поля. Напомню: именно в ту эпоху и в тех именно местах возник и закрепился обычай справлять ослиные праздники, так называемые Festa asinorum: это последнее латинское определение принадлежит церкви, с разрешения и благословения которой праздник осла странствовал из города в город и из сел в села. Возник он так: в вербную субботу, сценируя – для вящей назидательности – события предсмертных дней Христа, вводили под пение антифонов осла, обыкновенного, взятого у кого-нибудь из крестьян осла, который должен был напомнить о том прославленном евангелиями животном, которое, будучи проверено во всех своих признаках рядом цитат из закона и пророков, было избрано для своей провиденциальной роли. Вначале, можно предполагать, деревенский ослик, включенный – странным образом – в мессу, не проявлял ничего, кроме растерянности и желания вернуться назад, в стойло. Но очень скоро праздник осла превратился в своего рода мессу наоборот, оброс тысячами кощунств, исполнился буйства и разгула: окруженный толпой гогочущих поселян, среди гиканья и градом сыплющихся палочных ударов, ошалелый от страха, осел кричал и брыкался. Церковные служки, ухватившись за уши и хвост евангельского осла, втаскивали его на престол. Позади ревела толпа, распевающая циничные песни и кричащая ругательства на протяжные церковные мотивы. Кадильницы, набитые всякой гнилью, истово качаясь из стороны в сторону, наполняли храм дымом и смрадом. Из священных чаш хлестали сидр и вино, дрались, и богохульствовали, и гоготали, когда возвеличенный осел со страху гадил на плиты алтаря. После все это обрывалось. Праздник прокатывался дальше, а отбогохульствовавшие поселяне снова, набожно крестясь, отстаивали долгие мессы, жертвовали последние медяки на благолепие храма, ставили свечи иконным ликам, покорно несли эпитимии и жизнь. До нового азинария.
Полотно загрунтовано. Дальше.
Франсуаза и Пьер любили друг друга. Просто и крепко. Пьер был дюжим парнем, работавшим на окрестных виноградниках. Франсуаза же была больше похожа на вписанных в золотые нимбы по стенам храма женщин, чем на девушек, живших в избах по соседству с ней. Но вокруг ее нежно очерченной головы не было, разумеется, золотого нимба, так как она была единственной помощницей своей матери и придаток этот мог лишь мешать в работе. Франсуазу любили все, и даже престарелый о. Паулин, встречая ее, всякий раз улыбался и говорил: «Вот душа, возжженная перед Господом». И только один раз не сказал о. Паулин своего «вот душа»: это было, когда Франсуаза и Пьер пришли сказать ему, что хотят пожениться.
Первое оглашение было после воскресной мессы: Франсуаза и Пьер, стоя вместе в притворе, с бьющимися сердцами ждали; старый священник медленно взошел по ступенькам амвона, раскрыл требник, долго искал очки, и только тогда прозвучали стоящим друг подле друга их имена, сказанные – сквозь ладан и солнце – друг вслед другу.
Второе оглашение пало на вечернюю службу в среду. Пьера не было: ему нельзя было отлучиться от работы. Но Франсуаза пришла. Полусумрак храма был пуст – лишь две-три нищенки у входа – и снова дряхлый о. Паулин, скрипя крутыми ступенями амвона, поднялся навстречу сводам, вынул требник, отыскивал в карманах сутаны очки и сочетал имена: Пьер – Франсуаза.
Третье оглашение было назначено на субботу. Но в этот-то день – нежданно и буйно – прихлынул праздник осла. Идя к церкви, Франсуаза еще издали услыхала бесчисленные крики и дикий вой голосов, несшийся ей навстречу. У ступеней паперти она остановилась, колеблясь, как пламя, зажженное на ветру. В раскрытые двери кричал и неистовствовал звериными и человечьими голосами ослиный праздник. Франсуаза повернула было назад, но в это время подоспел Пьер: добрый малый не хотел больше ждать – его рукам, привыкшим к кирке и мотыге, хотелось Франсуазы. Он отыскал о. Паулина, заслонившегося сомкнутыми ставнями от неистовствующего храма, и просил его, сконфуженно, но настойчиво, не откладывать ни на единый час последнего оглашения. Старый священник, молча выслушав, перевел взгляд на стоявшую в стороне Франсуазу, улыбнулся одними глазами и так же, не проронив ни слова, быстро пошел к раскрытым дверям храма: жених и невеста – позади. У порога Франсуаза рванула руку из руки Пьера, но тот не отпустил ее: рев сгрудившихся людей, хохот сотен глоток и почти человеческий страдальческий вопль осла оглушили Франсуазу. Расширенные зрачки ее сквозь дымы зловонных курильниц видели сначала лишь взметенные кверху руки, раскрытые рты и вспученные, набрякшие кровью глаза толпы. Затем, толчками ступеней взносимое кверху, покойное и мудрое лицо священнослужителя. При виде его на миг все смолкло: о. Паулин, стоя над морем голов, раскрыл требник и, не торопясь, надевал очки. Молчание длилось.
– Оглашение третье. Во имя Отца и… – глухое гуденье, как во вскипающем котле, прикрытом крышкой, боролось со слабым, но четким голосом священника, – сочетается браком раба Божия Франсуаза…
– И я.
– И я. И я.
– И я. – И я. – И я, – заревела толпа множеством глоток. Котел сбросил крышку. И содержимое его, клокоча и пучась пузырями глаз, кричало, визжало и гудело:
– И я. – И я.
И даже осел, повернув к невесте вспененную морду, вдруг раскрыл пасть и заревел:
– И-и-и я-а-а!
Франсуазу замертво вынесли на паперть. Испуганный и обескураженный Пьер хлопотал около нее, стараясь вернуть ей сознание.
А затем все пошло своим чередом: любящие повенчались. Тут бы, казалось, и всей истории конец. На самом деле – это только ее начало.
Несколько месяцев кряду молодожены жили душа в душу, тело к телу. Днем их разлучала работа, ночи возвращали их друг другу. Даже сны, которые они рассказывали поутру, были сходны.
Но вот однажды после полуночи, перед вторыми петухами, Франсуазу – она спала чутче – разбудил внезапный шум. Опершись ладонями в подушку, она стала вслушиваться: шум, вначале глухой и далекий, постепенно рос и близился; сквозь ночь, будто ветром, несло неясный гул голосов, прерываемый резким звериным вскриком; еще минута – и можно было различить отдельные вперебой кричащие голоса, другая – и стала слышима проступь слов: «и я – и я»… Франсуаза, вдруг захолодев, тихо скользнула с кровати, подошла к двери и, босая, в одной рубашке, приникнула ухом к дверной доске: да – это был он – ослиный праздник – Франсуаза знала. Сотни и тысячи женихов, пришедших как тати в ночи, вперебой, моля и требуя, повторяли свое: и я – и я. Мириады буйных ослиных свадьб кружили вкруг дома; сотни рук нетерпеливо стучались в стены; сквозь щели в дверях било одуряющим куревом, и кто-то, подобравшись к самому порогу, страдальчески тихо звал: Франсуаза и я…
Франсуаза не понимала, как может так крепко спать Пьер. Смертельный ужас охватил ее: вдруг проснется и узнает: все. В чем было это мучающее и греховное все, она еще не отдавала себе отчета – тяжелая щеколда поддалась, дверь открылась, и она вышла, почти нагая, навстречу празднеству осла. И тотчас же все вкруг нее смолкло, но не в ней. Она шла босыми ногами по траве, не зная, куда и к кому. Неподалеку застучали копыта, звякнуло стремя, кто-то подал ей тихий голос: может быть, это был странствующий рыцарь, сбившийся в безлуние с пути, может быть, проезжий купец, выбравший ночь потемнее для провоза контрабанды – ночной жених безымянен, – в темную ночь он берет то, что темнее всех ночей: выкрав душу, как тать, придя, как тать, и изникает. Короче, опять прозвенело стремя, застучали копыта, а утром, провожая мужа на работу, Франсуаза так нежно поглядела ему в глаза и так долго не разжимала рук, охвативших его шею, что Пьер, выйдя за порог, нескоро перестал ухмыляться и, раскачивая мотыгой на плече, насвистывал веселое коленце.
И опять жизнь пошла как будто и по-старому. День – ночь – день. Пока опять не накатило это. Франсуаза клялась не поддаться наваждению. Подолгу стояла она, коленями в холодные плиты перед черными ликами икон; много молитв ее откружило по четкам. Но когда снова, разорвав сон, заплясал вкруг нее, все теснее и теснее смыкая круг, неистовый праздник осла, она, снова теряя волю, встала и шла – не зная, куда и к кому. На черном ночном перекрестке ей повстречался нищий, поднявшийся с земли навстречу белому видению, замаячившему ему сквозь тьму: руки его были шершавы, а от гнилых лохмотьев пахло омерзительно едко; не веря и не понимая, он все же жадно взял – и потом: зазвякали медяки в мешке, застучал костыль и, таясь, как тать, – скользя вдоль стены – ночной жених, испуганный и недоуменный, канул в тьму. А Франсуаза, вернувшись в дом, долго слушала ровное дыхание мужа и, наклоняясь над ним, стиснув зубы, беззвучно плакала: от омерзения и счастья. Прошли месяцы и, может быть, годы; жена и муж еще крепче любили друг друга. И снова, так же внезапно, как всегда, произошло это. Пьер был в ту ночь в отлучке, в десятке лье от деревушки. Позванная голосами, Франсуаза переступила порог в темноте меж смутных контуров деревьев, у самой земли, большим желтым глазом, полз огонь; и Франсуаза, не отрывая глаз от глаза, пошла навстречу судьбе. Минута – желтый глаз превратился в обыкновенный из стекла и железа фонарь; над ручкой его сухие из-под края сутаны пальцы, а чуть выше в мутном блике огня дряблое в тонких складках лицо о. Паулина: с полуночи его позвали к умирающему, – обещав душе небо, он возвращался назад, в плебанию. Встретив среди ночи Франсуазу, нагую и одну, о. Паулин не удивился. Подняв фонарь, он осветил ей лицо, внимательно вглядываясь в дрожь губ и в задернутые тусклой пленкой глаза. Потом дунул на огонь, и в слепой темноте Франсуза услыхала: