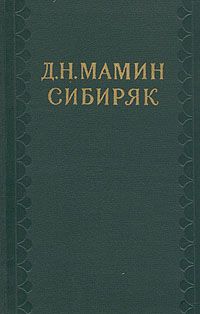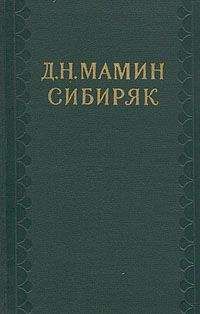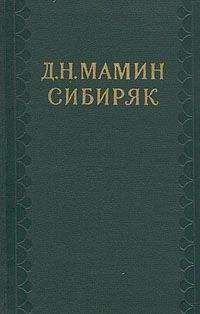— А Чусовая все еще не прошла? — спрашивал Егор Фомич в середине ужина, не обращаясь собственно ни к кому.
— Никак нет-с, — почтительно отвечал Семен Семеныч.
— Гм… жаль! Но приходится помириться, как мы миримся с капризами всех хорошеньких женщин. Наша Чусовая самая капризная из красавиц… Не так ли, господа?
За ужином, конечно, все пили, как умеет пить только один русский человек, без толка и смысла, а так, потому что предлагают пить.
— Урал — золотое дно для России, — ораторствовал Егор Фомич, — но ахиллесова пятка его — пути сообщения… Не будь Чусовой, пришлось бы очень плохо всем заводчикам и крупным торговым фирмам. Пятьдесят горных заводов сплавляют по Чусовой пять миллионов пудов металлов, да купеческий караван поднимает миллиона три пудов. Получается очень почтенная цифра в восемь миллионов пудов груза… Для нас даже будущая железная дорога[5] не представляет ни малейшей опасности, потому что конкурировать с Чусовой — немыслимая вещь.
— О, совершенная пастаки! — подтвердил немец.
— То есть что пустяки: железная дорога или Чусовая?
— Дорог пастаки…
Егор Фомич долго распространялся о всех преимуществах, какие представляет сплав грузов по реке Чусовой сравнительно с отправкой по будущей железной дороге, и с уверенностью пророчил этой реке самое блестящее будущее, как «самой живой уральской артерии».
— Теперь большинство заводов и купечество отправляют грузы в одиночку, — говорил он, играя массивной золотой цепочкой. — Всем это обходится дорого, и все несут убытки только оттого, что не хотят соединиться воедино. Другими словами, стоит передать эксплуатацию всей Чусовой в руки одной какой-нибудь компании, и тогда разом все устроится само собой. Что невыгодно теперь, тогда будет давать дивиденды… Компания организует дело на самых рациональных основаниях, по самым последним указаниям науки и опыта, и все неблагоприятные условия сплава по Чусовой в настоящем его виде падут сами собой, а главное — мы избавимся от разъедающей нас язвы, то есть от необходимости каждый раз нанимать бурлаков из дальних местностей.
— Да, бурлаки — совершенная язва, — почтительно вторил Семен Семеныч.
— Но как же вы обойдетесь без рабочих? — спрашивал кто-то.
— Очень просто: мы заменим сплав на потесях сплавом на лотах, тогда рабочих потребуется в пять раз меньше, то есть как раз настолько, насколько могут дать рабочих чусовские пристани и отчасти заводы. Теперь какая-нибудь лишняя неделя — бурлаки бегут, и мы каждым раз должны переживать крайние затруднения, а тогда…
— Но ведь для сплава на лотах потребуется вдвое больше времени, — заметил доктор, — а вода спадает через неделю…
— Мы устроим в верховьях Чусовой громадный водоем и будем сплавлять караван по паводку. На помощь главному водоему устроим несколько побочных… Одним словом, с технической стороны все предприятие не представляет особенных препятствий, а вся суть заключается в том, чтобы добиться согласия всех заводчиков — передать сплав грузов в одни руки, а затем привлечь к участию в предприятии общество. Теперь частные капиталы лежат непроизводительно, а тогда они будут давать двадцать — тридцать процентов дивиденда. Все выиграют…
Мы усердно пили шампанское за великую будущность Чусовой, за будущую компанию, за гениальный план Егора Фомича и за него самого.
— Деньги, деньги и деньги — вот где главная сила! — сладко закатывая глаза, говорил Егор Фомич на прощанье. — С деньгами мы устроим все: очистим Чусовую от подводных камней, взорвем на воздух все бойцы, уничтожим мели, срежем крутые мысы — словом, сделаем из Чусовой широкую дорогу, по которой можно будет сплавлять не восемь миллионов груза, а все двадцать пять.
Будущие сподвижники и осуществители грандиозных планов Егора Фомича только почтительно мычали или издавали одобрительное кряхтенье, глупо хлопая осовелыми, помутившимися глазами. Становой несколько раз принимался ощупывать себе голову, точно сомневался, его ли это голова…
— Вам куда? — спрашивал меня доктор, когда мы выходили из конторы.
— Я к Осипу Иванычу…
— У него остановились? Гм… Нам по пути. Мне еще нужно зайти кое к кому из пациентов.
Мы пошли по плотине к селению. Весенняя белая ночь стояла над горами, над лесом, над рекой. Такие ночи бывают только на Урале. Кто не переживал такой ночи, тому трудно понять ее чарующую прелесть. Тихо, тихо везде; прохваченный весенней изморозью воздух дремлет чутким сном. Далекие горы чуть повиты молочной дымкой. Дремлет темный лес на берегу, дремлет пристань с своими избушками на крутом угоре, дремлет все кругом под наплывом весенних грез. Ручейки, которые днем весело бороздили по всем улицам, разъедая «череп»[6], тоже заснули, превратившись в грязно-бурые полосы и наплыви. Я люблю такие ночи, когда так легко и вольно дышится здоровому человеку. Чувствуешь, как сам оживаешь вместе с природой и как в душе накопляется что-то такое хорошее, бодрое, счастливое. Не хочется верить, что эти белые ночи уносят вместе с весенними ручейками столько человеческих жизней — эту неизбежную жертву всякой весны…
Мне доставляет удовольствие присутствие доктора, который шагает рядом со мной; он постоянно спотыкается по своей близорукости, размахивает руками и как-то забавно причмокивает губами. Время от времени он снимает свою баранью шапку и осторожно ощупывает голову, как давеча делал становой.
— Что, доктор? — спрашивал я, удерживаясь от желания пощупать свою голову.
— Это черт знает что такое!… Мы-то с какой радости пили… а? Вы не акционер «Нептуна»?
— Нет…
— Я тоже… Этот Семен Семеныч подсунул за ужином какую-то такую монашескую специю…
— Шартрез?
— Нет, шартрез само собой: это еще милостиво.
Доктор засмеялся. Его добродушное старческое лицо покрылось розовыми пятнами, глаза блестели. Это был типичный представитель тех славных стариков докторов, которые сохранились только еще в провинции.
— Скажите, пожалуйста, доктор, что это за комедия сегодня разыгрывалась в конторе?
— Это вы насчет Егора Фомича?
— Да…
— Гм… Комедия самая обыкновенная: дела «Нептуна» не сегодня-завтра ликвидируются, — вот Егор Фомич и хватается за соломинку, чтобы выплыть. Акционеров вербует…
— Это-то понятно, только он едва ли чего-нибудь добьется. Никто ему не верит, и соглашаются с ним только из вежливости, то есть, вернее сказать, из-за угощения. Я уверен, что Егор Фомич не сбудет ни одной акции…
— Ну, это трудно сказать вперед. Конечно, ему не верят, даже смеются за глаза над ним, а, наверно, кончится дело тем, что все попадут в лапы к этому же самому Егору Фомичу. Такие превращения случаются сплошь и рядом. Меня собственно интересует манера Егора Фомича добывать акционеров: сначала оглушит проектами, а потом навалится с едой… Ведь глупости, кажется, а между тем действует, да еще как действует! Взять теперь хоть Парфена Маркыча — человек замечательно умный, насквозь видит Егора Фомича со всеми его проектами, а все-таки Егор Фомич слопает Парфена Маркыча… И ведь как просто: сегодня завтрак, завтра ужин, послезавтра обед — дело и сойдет, как по маслу. Подите вот вы с человеческой природой: против всего человек устоит, а едой его проймут.
— Вы шутите?
— Нет, говорю совершенно серьезно. Вот сами увидите, как Егор Фомич всех обделает: и Парфена Маркыча, и Алексея Самойлыча, и Павла Петровича, и, по всей вероятности, еще многих других. В природе ведь то же бывает: стоит какая-нибудь этакая скала; кажется, и веку ей не будет, а между тем точит ее ручеек, точит-точит — глядишь, наша скала и рухнула. Так и с нашими акционерами: наживают деньги правдами и неправдами десятки лет, крепятся, скалдырничают, а тут подвернулся Егор Фомич — благоразумный раб и распоясался. Ведь сам не верит ни Егору Фомичу, ни его двадцати процентам, а все-таки идет в ловушку… Черт знает что за глупость!
Мы подошли к квартире Осипа Иваныча.
— Вы спать? — спрашивал доктор, останавливаясь.
— Да.
— В этакую-то ночь? Да побойтесь бога, батенька! Это, наконец, бессовестно… Лучше пройдемтесь по берегу, вы погуляете, а я навещу двоих тифозных. Совсем безнадежны… Идет?
— Пожалуй.
— Нет, в самом деле таких белых ночей не много выпадает на нашу долю.
Мы шли по берегу Чусовой, мимо крепких бревенчатых изб, где все покоилось мертвым сном. Где-где глухо брехнет спросонья собака, и опять мертвая тишина кругом; только молодой месяц обливает и лес, и реку, и деревню своим трепетным молочным светом. Теперь пристань походила на громадное поле убиенных, которые там и сям лежали кучками. Ближе эти кучки превращались в груды лохмотьев, из которых выставлялись руки, ноги и головы. Спавшие люди виднелись везде, под малейшим прикрытием: под навесами изб, на завалинках, за углами, а то и просто на бугорке, который солнце за день успело обсушить и прогреть. Ни дать ни взять — настоящее поле убиенных, на котором не успели даже хорошенько прибрать трупов, а просто, для порядку, стаскали их в несколько куч. Дальше, на самом берегу, красным глазом мелькал огонек, около которого можно было различить несколько неподвижных фигур.