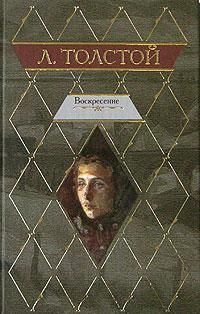Началась обычная процедура: перечисление присяжных заседателей, рассуждение о неявившихся, наложение на них штрафов и решение о тех, которые отпрашивались, и пополнение неявившихся запасными. Потом председатель сложил билетики, вложил их в стеклянную вазу и стал, немного засучив шитые рукава мундира и обнажив сильно поросшие волосами руки, с жестами фокусника, вынимать по одному билетику, раскатывать и читать их. Потом председатель спустил рукава и предложил священнику привести заседателей к присяге.
Старичок священник, с опухшим желто-бледным лицом, в коричневой рясе с золотым крестом на груди и еще каким-то маленьким орденом, приколотым сбоку на рясе, медленно под рясой передвигая свои опухшие ноги, подошел к аналою, стоящему под образом.
Присяжные встали и, толпясь, двинулись к аналою.
– Пожалуйте, – проговорил священник, потрогивая пухлой рукой свой крест на груди и ожидая приближения всех присяжных.
Священник этот священствовал сорок шесть лет и собирался через три года отпраздновать свой юбилей так же, как его недавно отпраздновал соборный протоиерей. В окружном же суде он служил со времени открытия судов и очень гордился тем, что он привел к присяге несколько десятков тысяч человек и что в своих преклонных годах он продолжал трудиться на благо церкви, отечества и семьи, которой он оставит, кроме дома, капитал не менее тридцати тысяч в процентных бумагах. То же, что труд его в суде, состоящий в том, чтобы приводить людей к присяге над Евангелием, в котором прямо запрещена присяга, был труд нехороший, никогда не приходило ему в голову, и он не только не тяготился этим, но любил это привычное занятие, часто при этом знакомясь с хорошими господами. Теперь он не без удовольствия познакомился с знаменитым адвокатом, внушавшим ему большое уважение тем, что за одно только дело старушки с огромными цветами на шляпке он получил десять тысяч рублей.
Когда присяжные все взошли по ступенькам на возвышение, священник, нагнув набок лысую и седую голову, пролез ею в насаленную дыру епитрахили и, оправив жидкие волосы, обратился к присяжным.
– Правую руку поднимите, а персты сложите так вот, – сказал он медленно старческим голосом, поднимая пухлую руку с ямочками над каждым пальцем и складывая эти пальцы в щепоть. – Теперь повторяйте за мной, – сказал он и начал: – Обещаюсь и клянусь всемогущим Богом, пред святым Его Евангелием и животворящим крестом Господним, что по делу, по которому… – говорил он, делая перерыв после каждой фразы. – Не опускайте руки, держите так, – обратился он к молодому человеку, опустившему руку, – что по делу, по которому…
Представительный господин с бакенбардами, полковник, купец и другие держали руки с сложенными перстами так, как этого требовал священник, как будто с особенным удовольствием, очень определенно и высоко, другие как будто неохотно и неопределенно. Одни слишком громко повторяли слова, как будто с задором и выражением, говорящим: «А я все-таки буду и буду говорить», другие же только шептали, отставали от священника и потом, как бы испугавшись, не вовремя догоняли его; одни крепко-крепко, как бы боясь, что выпустят что-то, вызывающими жестами держали свои щепотки, а другие распускали их и опять собирали. Всем было неловко, один только старичок священник был, несомненно, убежден, что он делает очень полезное и важное дело. После присяги председатель предложил присяжным выбрать старшину. Присяжные встали и, теснясь, прошлись в совещательную комнату, где почти все они тотчас достали папиросы и стали курить. Кто-то предложил старшиной представительного господина, и все тотчас же согласились и, побросав и потушив окурки, вернулись в залу. Выбранный старшина объявил председателю, кто избран старшиной, и все опять, шагая через ноги друг другу, уселись в два ряда на стулья с высокими спинками.
Все шло без задержек, скоро и не без торжественности, и эта правильность, последовательность и торжественность, очевидно, доставляли удовольствие участвующим, подтверждая в них сознание, что они делают серьезное и важное общественное дело. Это чувство испытывал и Нехлюдов.
Как только присяжные уселись, председатель сказал им речь об их правах, обязанностях и ответственности. Говоря свою речь, председатель постоянно переменял позу: то облокачивался на левую, то на правую руку, то на спинку, то на ручки кресел, то уравнивал края бумаги, то гладил разрезной нож, то ощупывал карандаш.
Права их, по его словам, состояли в том, что они могут спрашивать подсудимых через председателя, могут иметь карандаш и бумагу и могут осматривать вещественные доказательства. Обязанность состояла в том, чтобы они судили не ложно, а справедливо. Ответственность же их состояла в том, что в случае несоблюдения тайны совещаний и установления сношений с посторонними они подвергались наказанию.
Все слушали с почтительным вниманием. Купец, распространяя вокруг себя запах вина и удерживая шумную отрыжку, на каждую фразу одобрительно кивал головою.
Окончив свою речь, председатель обратился к подсудимым.
– Симон Картинкин, встаньте, – сказал он.
Симон нервно вскочил. Мускулы щек зашевелились еще быстрее.
– Ваше имя?
– Симон Петров Картинкин, – быстро проговорил он трескучим голосом, очевидно вперед приготовившись к ответу.
– Ваше звание?
– Крестьяне.
– Какой губернии, уезда?
– Тульской губернии, Крапивенского уезда, волости Купянской, села Борки.
– Сколько вам лет?
– Тридцать четвертый, рожден в тысяча восемьсот…
– Веры какой?
– Веры мы русской, православной.
– Женат?
– Никак нет-с.
– Чем занимаетесь?
– Занимались мы по коридору в гостинице «Мавритания».
– Судились когда прежде?
– Никогда не сужден, потому как мы жили прежде…
– Не судились прежде?
– Помилуй Бог, никогда.
– Копию с обвинительного акта получили?
– Получили.
– Садитесь. Евфимия Иванова Бочкова, – обратился председатель к следующей подсудимой.
Но Симон продолжал стоять и заслонял Бочкову.
– Картинкин, сядьте.
Картинкин все стоял.
– Картинкин, сядьте!
Но Картинкин все стоял и сел только тогда, когда подбежавший пристав, склонив голову набок и неестественно раскрывая глаза, трагическим шепотом проговорил: «Сидеть, сидеть!»
Картинкин сел так же быстро, как он встал, и, запахнувшись халатом, стал опять беззвучно шевелить щеками.
– Ваше имя? – со вздохом усталости обратился председатель ко второй подсудимой, не глядя на нее и о чем-то справляясь в лежащей перед ним бумаге. Дело было настолько привычное для председателя, что для убыстрения хода дел он мог делать два дела разом.
Бочковой было сорок три года, звание – коломенская мещанка, занятие – коридорная в той же гостинице «Мавритания». Под судом и следствием не была, копию с обвинительного акта получила. Ответы свои выговаривала Бочкова чрезвычайно смело и с такими интонациями, точно она к каждому ответу приговаривала: «Да, Евфимия, и Бочкова, копию получила, и горжусь этим, и смеяться никому не позволю». Бочкова, не дожидаясь того, чтобы ей сказали сесть, тотчас же села, как только кончились вопросы.
– Ваше имя? – обратился женолюбивый председатель как-то особенно приветливо к третьей подсудимой. – Надо встать, – прибавил он мягко и ласково, заметив, что Маслова сидела.
Маслова быстрым движением встала и с выражением готовности, выставляя свою высокую грудь, не отвечая, глядела прямо в лицо председателя своими улыбающимися и немного косящими черными глазами.
– Звать как?
– Любовью, – проговорила она быстро.
Нехлюдов между тем, надев pince-nez, глядел на подсудимых по мере того, как их допрашивали. «Да не может быть, – думал он, не спуская глаз с лица подсудимой, – но как же Любовь?», – думал он, услыхав ее ответ.
Председатель хотел спрашивать дальше, но член в очках, что-то сердито прошептав, остановил его. Председатель сделал головой знак согласия и обратился к подсудимой.
– Как Любовью? – сказал он. – Вы записаны иначе.
Подсудимая молчала.
– Я вас спрашиваю, как ваше настоящее имя.
– Крещена как? – спросил сердитый член.
– Прежде звали Катериной.
«Да не может быть», – продолжал себе говорить Нехлюдов, и между тем он уже без всякого сомнения знал, что это была она, та самая девушка, воспитанница-горничная, в которую он одно время был влюблен, именно влюблен, а потом в каком-то безумном чаду соблазнил и бросил и о которой потом никогда не вспоминал, потому что воспоминание это было слишком мучительно, слишком явно обличало его и показывало, что он, столь гордый своей порядочностью, не только не порядочно, но прямо подло поступил с этой женщиной.
Да, это была она. Он видел теперь ясно ту исключительную, таинственную особенность, которая отделяет каждое лицо от другого, делает его особенным, единственным, неповторяемым. Несмотря на неестественную белизну и полноту лица, особенность эта, милая, исключительная особенность, была в этом лице, в губах, в немного косивших глазах и, главное, в этом наивном, улыбающемся взгляде и в выражении готовности не только в лице, но и во всей фигуре.