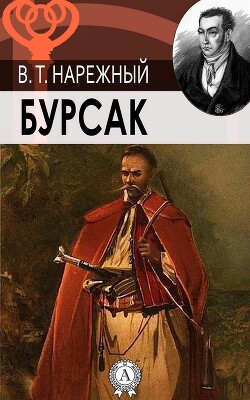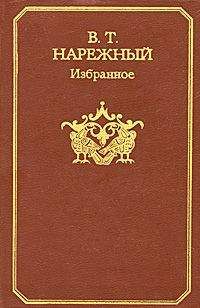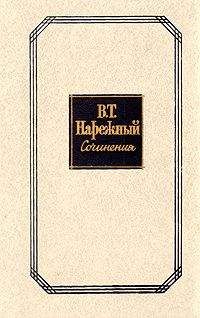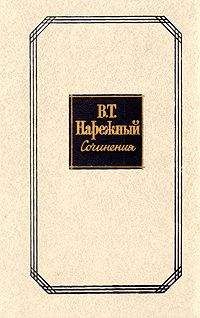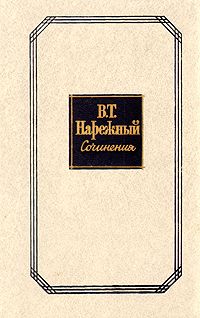Таким образом среди всегдашней бедности и временного довольства, среди ученья и шалостей протекли восемь лет. Я оканчивал уже курс философии, а потому, пользуясь неупустительно правами философа, и я пил вино, курил табак и носил усы. Много перебывало у нас консулов, и в последнее время друг юности моей, Кастор, нес на себе сие великое звание. Отец мой, честный дьячок Варух, посещал меня не часто, но зато всякий раз щедро награждал благословениями и советами. У друга его дьячка Варула и последний глаз закрылся навеки. Я весьма нередко, можно даже сказать, весьма часто посещал честного Короля и день ото дня находил в нем более достоинств. Бывали случаи, что он, забывшись, обнаруживал свою ученость, которая при его опытности гораздо мою превосходила; но он скоро опомнивался, и я никак не мог дознаться, кто он подлинно, ибо не хотел верить, чтоб простой казак полка гетманского, как он о себе сказывал, мог разуметь философию и говорить так логически. «И то правда, — думал я иногда, — может быть, и он такой же бурсак, как Сарвил, о коем мы со дня изгнания из семинарии ничего уже не слыхали».
В сие время начали колебаться умы от политической заразы. Сперва тайно, а потом и явно начали говорить на базарах, в шинках и в классах семинарии, что гетман принял твердое намерение со всею Малороссиею отторгнуться от иноплеменного владычества Польши и поддаться царю русскому.
Такие слухи более и более усиливались и доводили поляков до неистовства.
Старый киевский воевода принял деятельнейшие меры воспротивиться таковому предприятию гетмана, низложить оное и еще более поработить Малороссию.
Гетман тайно начал готовить войска.
В сем положении были дела народные, и всякий, кто только имел какую-нибудь собственность, принимал в них живейшее участие. Последний казак, у коего ничего не было, кроме плохой свиты и сабли, с презрением смотрел на нарядного поляка, и в шинках нередко доходило до поволочек. В одной блаженной бурсе господствовали прежние свобода и спокойствие. Мы, по заведенному порядку, пели под окнами, а иногда и проворили, но гораздо реже, чем прежде, и с того времени, как начал я подрастать, огород Короля сделался неприкосновенным; зато добрый старик время от времени добровольно наделял нас нужными огородными овощами.
В один зимний день, когда я возвратился только из классов в бурсу, нашел уже в ней Вакха, пастуха из селения Хлопот. Он тотчас повестил, что отец мой при смерти болен и желает меня видеть. Я всполошился и не знал, что делать. Как в трескучие морозы пуститься в поле в одной рубахе и легком байковом сертуке? Оставить же отца умирать, его не видя, казалось для меня делом безбожным, а между тем и мысль, — признаюсь в грехе, — что по смерти его должно же что-нибудь остаться, а это что-нибудь для человека, у которого нет ничего, много значит, и что сего остающегося я наследником, побуждала меня к походу.
— От чего же так скоропостижно захворал отец мой? — спросил я у Вакха, грея руки у печки.
— Подлинно скоропостижно, — отвечал пастух, — ибо без несчастного случая он мог бы прожить еще очень долго.
— Случая? — вскричал я, — случай, или судьба, или что мы, ученые, называем fatum turcicum. [4]
— Провались ты с твоею латынью, — сказал сурово Вакх, — идешь ли ты к умирающему отцу или нет? Теперь не лето; если запоздаем, то достанемся на ужин какому-нибудь голодному волку.
— Погоди немного, — сказал я и бросился к Королю.
Когда я рассказал добродушному человеку о своем затруднении, как середи зимы пуститься в дальнюю дорогу в летней одежде, он принял важный вид, сел на лавку и сказал:
— Спасибо, Неон, за чистосердечие. Открывать о нуждах своих людям неизвестным и глупо, и вредно, и именно оттого глупо, что вредно; но скрывать оные от человека, известного нам по своему доброхотству, из одного ложного стыда, также неразумно, потому что такая скрытность может довести до края пропасти. Так, друг мой, ты должен видеться с отцом своим до его кончины. Спеши взять от префекта увольнение и возвращайся ко мне.
Увольнение мое заключалось в нескольких словах: «Ступай с богом, да напрасно не трать времени!», и я в тот же час возвратился к Королю. Он облачил меня в овчинный тулуп, надел такую же шапку и, дав в одну руку два злотых, а в другую вместо палки рогатину, благословил в путь. Мы с Вакхом были догадливы. По пути зашли к шинкарке, а после, запасшись несколькими булками, пустились в дорогу. Не прежде как булки были съедены — так-то физика берет верх над метафизикою, — спросил я с воздыханием у Вакха:
— В чем же заключается тот несчастный casus, который преждевременно доводит отца моего до вод Стигийских?
Вакх молчал.
— Каким определением рока, — продолжал я спрашивать, — отец мой должен последовать сыну Майну, который передаст его с рук на руки угрюмому Хорону?
Вакх продолжал хранить молчание.
— Естественные ли силы или сверхъестественные, — возвыся голос, спросил я, — указывают отцу моему берега реки Леты, из коей, испив воды, он навеки забудет и свое дьячество, и сына Неона, и крилос, и колокольню?
Вакх, не взглянув даже на меня, продолжал путь. Такой стоицизм вывел меня из терпения, и я спросил отрывисто:
— Скажи, пожалуй, отчего отец мой сделался болен и близок к смерти?
— Давно бы так, глупый человек! — отвечал Вакх, — зачем тебе говорить чертовщину, которой я благодаря бога совсем не понимаю! Как скоро же теперь понял, то и удовлетворю справедливому твоему желанию. Знай: в минувший праздник угодника Николая отец твой Варух несколько не остерегся и позабрал в голову лишнее. Когда пономарь начал благовестить к вечерням, он мигом очутился на колокольне, стал подле звонаря и так завопил, что и действительно голос его был слышнее, чем звон колокола. Звонарь, у которого голова была в не меньшем коловращении, как и у Варуха, крайне сим оскорбился. «Любезный собрат, — сказал он с приметным негодованием, — не годилось бы, кажется, нам друг над другом кощунствовать. Это явный соблазн и огорчение всем прихожанам, которые не могут не досадовать, что звон колокола, от щедрости их повешенного, гораздо слабее голоса охмелевшего дьячка Варуха». Отец твой, вместо того чтобы послушаться благого напоминания, вознесся гордостию сатанинскою и так заревел на разные гласы, что и трезвону слышно не было. «О! — вскричал звонарь, воспалясь гневом, — ты, видно, забыл, что не на крилосе? Ступай же туда и горлань, хоть лопни, а мне здесь сам батька не указчик!» С сим словом он стукнул Варуха по затылку и так небережно, что бедняк полетел с лестницы вниз головою.
Лестница — ты знаешь — крута и высока; суди же, чего стоило несчастному Варуху достичь до последней ступени. Кровь лилась из него ручьем. Звонарь — человек не злой — первый поднял вопль, бросился к Варуху и нашел его без чувств. На крик сбежалось множество прихожан, шедших к вечерням, и пораженный отнесен домой. Тотчас призван был знахарь, осмотрел поврежденные части и нашел, что у него левая рука переломлена, правая нога вывихнута, а на голове три неисцельные язвы довершали опасность.
Нашептывания и примочки имели свою силу.
Варух опомнился, равнодушно выслушал о своем сомнительном состоянии и, призвав меня, просил сходить за тобою.
— Вот какова жизнь человеческая, — примолвил Вакх со вздохом, — живи, живи, да и умри! Что, господин студент, не поворотить ли нам направо по этой утоптанной дорожке?
— А куда ведет она?
— Разве не видишь там, подле лесу, большой хаты? Это шинок, и в нем всегда можно найти преизрядное вино. Если ты, по примеру всех бурсаков, путешествуешь без лишней копейки и от подати, заплаченной Мастридии, ничего не осталось, так пастухи в сем случае догадливее. Пойдем-ка!
Мы своротили с дороги, подкрепили силы и пустились далее. Чтоб доказать Вакху, что бурсаки не все одинаковы, я оставил в шинке половину злотого. В глубокие сумерки дошли мы до хаты Варуховой, которой не видал я целые восемь лет. Сердце мое билось сильно. С каким восхищением переступил бы я порог родительского жилища, если бы мысль, что прежде всего встречу умирающего хозяина, не разливала трепета во всем моем составе! Однако я призвал на помощь тени Сократа, Катона и Сенеки, сих мучеников древности, ополчился философиею, вошел в избу и упал на колени перед болезненным одром отца моего. Варух умилился, протянул ко мне правую руку, обнял с нежностию и, приказав сесть у ног своих, сказал присутствовавшему пастуху: