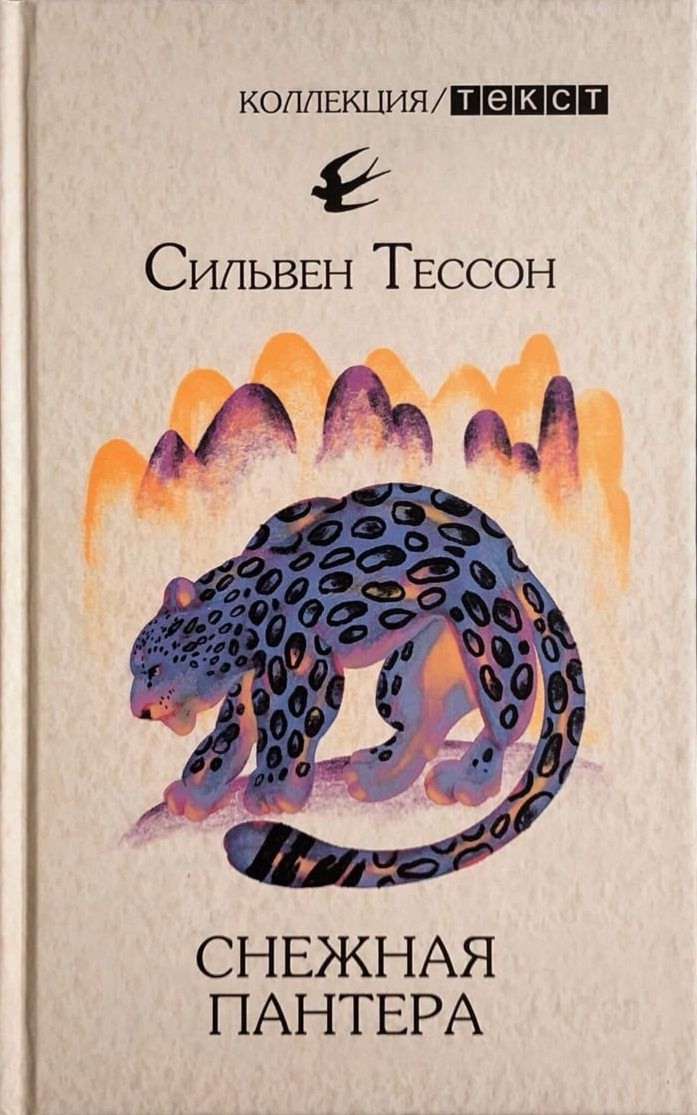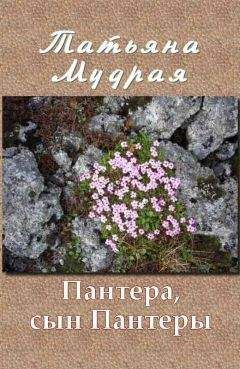хижины, и Мари заметила пелену, поднимавшуюся вихрем в самом низком месте пенеплена (ровной плоскости). Стадо из восьми диких ослов расплывалось вдоль реки в четырех километрах от хижины, идя с востока и направляясь к нам. Мюнье уже был у своего телескопа.
— Equus kiang, — произнес он, когда я поинтересовался научным названием кулана, его именем «для своих».
Ослы остановились на пастбище злаковых растений к северу от нас. В тот день мы почти не видели живых существ в долине, примыкавшей к хижине. Волк, который пел накануне, посеял панику. Звери не танцуют, когда поет волк. Они затаиваются.
Покинув хижину, мы приближались к ослам индейской цепочкой, скрытые аллювиальной насыпью. Над стадом парил королевский орел. Мы достигли каньона, врезающегося в склон, и по сухому руслу, в своих камуфляжных одеяниях, пригнувшись, шли вперед. Ослы нервно щипали траву. Их рыжеватые шкуры, испещренные черными линиями, изысканно смотрелись в пейзаже.
— Фарфор на круглом столике, — сказал Лео.
Куланы, кузены лошадей, не испытали позора одомашнивания, однако китайская армия уничтожала их, чтобы кормить продвигавшуюся вперед армию полвека назад. Эти были выжившими. Мы различали их выпуклые головы, густые гривы, округлые крупы. Ветер раздувал размывку пылью позади их. Животные находились в ста метрах, и Мюнье наводил на них объектив. Вдруг куланов как будто сдуло; они помчались к западу, как ударенные током. Камень скатился нам под ноги. Плато пробило током. Шквалы ревели, свет вспыхивал в пыли, поднятой галопами, кавалькада взбудоражила облака вьюрков, встревоженная лиса удирала со всех ног. Жизнь, смерть, сила, бегство: красота раскалывалась…
Мюнье произнес грустно:
— Моя мечта в жизни — быть совершенно невидимым.
Большинство мне подобных, и я в первую очередь, хотели противоположного: показать себя. Никаких шансов нет у нас приблизиться к зверям.
Мы возвратились в хижину, даже не пытаясь прятаться. Темнота наступала, и холод уже не пронизывал меня до костей, потому что ночь узаконивала его в правах. Я закрыл дверь хижины, Лео включил газовый нагреватель, я думал о зверях. Они готовились к часам крови и стужи. Наступала ночь охоты. Уже раздавались крики совы Афины. Хищники пускались в опустошительный разбой. Каждый искал добычи. Волки, рыси, куницы пускались в атаку, и варварский пир будет продолжаться до рассвета. Оргия закончится с восходом солнца. Тогда те, кому повезет, залягут отдыхать с полными животами, радуясь в свете лучей удачной ночной охоте. Травоядные снова начнут бродить, чтобы урвать несколько пучков, которые превратятся в энергию бегства. Эти животные задавлены необходимостью все время держать голову понурой, сбривая пищу, их шея согнута грузом детерминизма, а кора головного мозга приплюснута к лобовой кости, они неспособны уклониться от программы, которая предназначала их в жертву.
Мы готовили суп в овчарне. Урчание обогревателя создавало иллюзию тепла. Было минус десять внутри. Мы перебирали все, что увидели за неделю, события, не менее волнующие, чем вторжение турок в Курдистан, хоть и не столь угрожающие. В конце концов, спуск волка к стаду яков, бегство восьми ослов, над которыми парил орел, — это не менее значимые события, чем визит американского президента к президенту Кореи. Я мечтал о том, чтобы пресса писала о животных. Вместо «Смертоносное нападение во время карнавала» люди читали бы: «Голубые козы достигли Куньлуня». На страницах было бы меньше тревоги — и больше поэзии.
Мюнье хлебал суп, в шапке, он напоминал белорусского металлурга, щеки впали за время, проведенное в горах. И непременно — тоном самым мужским, какой только может быть, — он бросал: «Разве мы не завершим чем-нибудь сладким?», прежде чем вскрыть банку консервов ударом кинжала. Он посвятил жизнь преклонению перед животными. Мари разделила с ним этот путь. Как они переносили возвращение в мир людей, то есть в беспорядок?
Порядок
На следующее утро мы с Лео спрятались за аллювиальным накатом, идущим вдоль течения реки там, где в нее впадает один из ее маленьких притоков. Это было хорошее место, чтобы следить за зверями. Черные тени бежали по скалам. Обзор — как из склепа; тихое солнце, живой свет: оставалось только дождаться зверей. Мюнье и Мари лежали западнее, за большими черными глыбами. В двухстах метрах газели щипали траву. Они грациозно возились и были слишком заняты своим делом, чтобы почувствовать приближение волка. Дело шло к охоте, в белую пыль прольется кровь.
Как это вышло? Бесконечные жестокие погони и муки, снова и снова. Жизнь выглядит чредой нападений; спокойный с виду пейзаж — всего лишь декорация беспрерывных убийств на всех биологических уровнях: от инфузории-туфельки до королевского орла. В X веке на тибетском плато распространился буддизм, одна из самых изощренных теорий избегания страдания. Тибет — наилучшее место, дабы задаваться вопросами на эту тему. Мюнье лежал в засаде и был способен оставаться там восемь часов кряду. Было время заняться метафизикой.
Прежде всего: почему я всегда воспринимаю пейзаж как антураж страшных событий? Даже на Бель-Иле, у согретого солнцем моря, среди отдыхающих, озабоченных лишь тем, чтобы успеть до темноты опустошить стаканы с живри, меня одолевают мысли о скрытой борьбе: кромсают добычу крабы, пасти миног втягивают жертв, каждая рыба ищет ту, что слабее, шипы, клювы, клыки раздирают плоть. Почему не наслаждаться пейзажем, не думая о преступлении?
В незапамятные времена, до большого взрыва, существовала величественная, однородная и спокойная сила. Пульсирующая мощь. Вокруг бездны. Люди перессорились, пытаясь дать имя этому импульсу. Одни говорили: Бог; все сущее — в Его ладони. Более осторожные умы говорили о том же самом: «Бытие». Для кого-то это была вибрация первичного «Ом», энергия-материя в ожидании, математическая точка, недифференцированная сила. Белокурые моряки с мраморных островов, греки, назвали эту пульсацию хаосом. Прожаренное солнцем племя кочевников, евреи, назвали его Словом, а греки перевели это как «дыхание». Каждый придумывал свое понятие, обозначающее единство. Каждый точил свой кинжал, дабы укокошить того, кто с ним не соглашался. Все объяснения означали одно: движение первичной сущности в пространстве-времени. Взрыв ее высвободил. Нерастяжимое растянулось, невыразимое узнало определенность, незыблемое проявилось, неразличимое обрело множество лиц, темное осветилось. Это был разрыв. Конец Единства!
Биохимические составляющие забарахтались в воде. Появилась жизнь, она стала распространяться и осваивать Землю. Время наступало на пространство. Все усложнялось. Живые существа ветвились, делились на виды, отдалялись друг от друга, притом каждое выживало, пожирая других. Эволюция придумала изысканные формы паразитирования, воспроизводства и перемещения. Загонять,