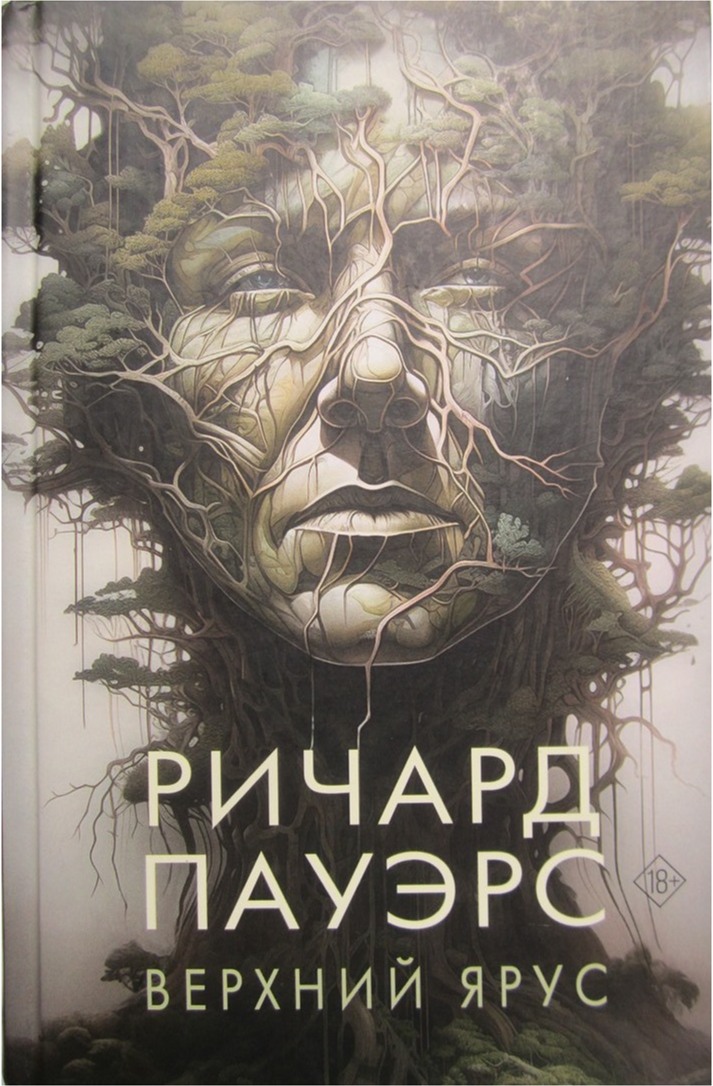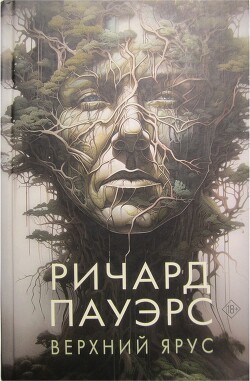с неба. Но Ник здесь родился, а его отец не был бы собой, не поставив новую зимнюю резину. Выставка прекрасная. От одного только Шилера [5] у Ника случается приступ творческой ревности. Он остается до самого закрытия. Когда его наконец выдворяют на улицу, там уже темно, а снежные вихри завиваются над ботинками.
Он выбирается на шоссе и потихоньку двигается на восток. Дорога совершенно белая. Все водители, достаточно глупые, чтобы сегодня отправиться в путь, цепляются друг за друга, едут по молочной пустыне, ориентируясь по фарам тех, кто впереди. Колея, которую вспахивает Ник, имеет лишь абстрактное отношение к дороге. Шумовую полосу на шоссе настолько заглушает снег, что Ник ее почти не слышит.
Под виадуком он попадает на гладкий как стекло лед. Машину заносит вбок. Он не противится этому свободному скольжению, уговаривает автомобиль, как воздушного змея, пока тот не выпрямляется. Ник то включает, то вырубает дальний свет, пытаясь решить, что меньше слепит в снежном занавесе. За час проезжает миль двадцать.
Сцена разворачивается в снежно-черном туннеле, как отрывок из документалки про полицейских, снятый ночной камерой. Огромная фура складывается вдвое и разворачивается, как раненое животное, выскакивая на полосу Ника в ста ярдах впереди. Он крутит руль, скользит на обочину. Зад машины отскакивает от отбойника. Передний бампер целуется с шиной грузовика. Ник останавливается, его начинает трясти так сильно, что рулить он больше не может. Сворачивает на стоянку, забитую потерявшимися в метели водителями.
Перед туалетами стоит платный телефон. Ник набирает домашний номер, но звонок не проходит. Ночь перед Сочельником, линии загружены по всему штату. Он уверен, что родители жутко беспокоятся. Но ему остается только свернуться на сиденье машины и поспать хотя бы пару часиков, пока все не утихнет, а снегоочистители не разберутся с припадком божьей ярости.
Незадолго до рассвета Ник снова выбирается на дорогу. Снега почти нет, машины тащатся в обоих направлениях. Он еле ползет домой. Самый трудный отрезок пути — это небольшой подъем на съезде с шоссе. Ник идет юзом на уклоне и сворачивает на дорогу к ферме. Все занесено, кругом сугробы. Каштан Хёлов появляется первым, он весь белый, единственный шпиль до самого горизонта. Два верхних окна в доме светятся. Ник представить себе не может, чтобы кто-то встал так рано. А значит, родители не ложились всю ночь, ждали вестей от него.
Дорога к дому завалена снегом. Старый снегоочиститель деда до сих пор в сарае. Отец должен был прогнать его уже минимум пару раз. Ник сражается с заносами, но их слишком много. Он оставляет машину на подъездной дорожке и последний отрезок пути проходит пешком. Распахнув переднюю дверь, врывается внутрь с песней:
— О, погода снаружи ужасна!
Но внизу никто не смеется.
Позже он спросит себя, не понял ли все тогда, еще у двери. Но нет: он дошел до лестницы, у подножия которой лежал отец, головой вниз, руки согнуты под невозможными углами, вознося хвалу полу. Ник кричит, падает на колени, но тут уже ничем не помочь. Он встает, взлетает на второй этаж, перескакивая через две ступеньки. Но уже все ясно, как Рождество, все понятно. Наверху две женщины лежат в своих кроватях, и разбудить их нельзя — поздний утренний сон в Сочельник.
Муть поднимается по ногам и телу Николаса. Он тонет в смоле. Бежит вниз, где старый пропановый обогреватель все еще выкручен на полную, качает газ, тот поднимается и, невидимый, собирается под потолком, который отец недавно обил дополнительным утеплителем. Ник, качаясь, вываливается в дверь, спотыкается на крыльце и падает в снег. Перекатывается на морозной белизне, задыхаясь и оживая. Смотрит вверх, и перед ним раскидываются ветви страж-древа, одинокие, огромные, фрактальные и голые под порывами ветра, каштан поднимает нижние конечности и покачивает массивным шаром. Все его расточительные сучки щелкают на ветру, словно этот момент, такой незначительный, такой мимолетный, тоже будет вписан в его кольца, и ветви будут на него молиться, теперь же они машут, словно флажками, на фоне синего, невероятно синего зимнего неба.
В ТОТ ДЕНЬ 1948 ГОДА, когда Ма Сысюнь получает свой билет третьего класса на корабль до Сан-Франциско, отец начинает разговаривать с ним по-английски. Принудительная практика, на благо сына. Властная британская колониальная речь отца ходит кругами рядом с функциональной адекватностью инженера-электрика, свойственной Сысюню.
— Мой сын. Послушай меня. Мы обречены.
Они сидят на верхнем этаже, в офисе шанхайского комплекса, здесь на одной половине торговый дом компании, а на второй живет семья Ма. Деловая суета Нанкинской дороги доносится до самого окна, обреченности не видать и в помине. Но, с другой стороны, Ма Сысюнь не интересуется политикой, а зрение у него, как у человека, который решал слишком много математических задач при свете свечи. Его отец — знаток искусства, мастер-каллиграф, патриарх с одной главной и двумя младшими женами — не может не говорить метафорами. Те всегда озадачивают Сысюня.
— Эта семья так далеко зашла. От Персии к китайским Афинам, так ты мог бы сказать.
Сысюнь кивает, хотя он бы никогда не сказал ничего подобного.
— Мы, мусульмане хуэй, взяли все, что эта страна в нас бросила, и перепаковали для перепродажи. Это здание, наше поместье в Гуаньчжоу… Только подумай о том, что мы пережили. Стойкость Ма!
Ма Шоуин смотрит в августовское небо, мысленно перебирая все невзгоды, которые перенесла Торговая компания Ма. Колониальная эксплуатация. Восстание тайпинов. Уничтожение семейных плантаций шелка тайфуном. Революция 1911-го и резня 27-го. Он смотрит в темный угол комнаты. Призраки повсюду, жертвы насилия, о котором даже философ-магнат, нанявший вместо себя паломника в Мекку, не осмеливается говорить вслух. Он протягивает ладонь над столом, заваленным бумагами:
— Даже японцы не смогли нас сломить.
ОТ ИСТОРИИ У СЫСЮНЯ СЫПЬ и учащается пульс. Через четыре дня он отправится в Штаты, один из немногих китайских студентов, кому в 1948 году дали визы. Неделями он изучал карты, штудировал уведомления о зачислении, раз за разом повторял малопонятные название: корабль ВМС США «Генерал Мейгс», автобус «Грейхаунд», Институт технологии Карнеги. Полтора года ходил на утренние киносеансы с Гейблом Кларком и Астером Фредом, практикуясь в новом языке.
Он с трудом продирается через английский из одной только гордости:
— Если хочешь, я остаюсь здесь.
— Ты думаешь, я хочу, чтобы ты остался? Да ты совсем не понял, о чем я говорю.
Взгляд его отца похож на стихотворение:
Почему застыл ты
На перекрестке дорог
И